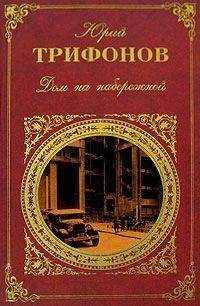В своем поведении, в своих привычках Пыж был подлинно аристократичен. Это было в характере, такому не научить. Учтивость к людям сочеталась в нем с чувством большого собственного достоинства, он был галантен по отношению к сукам и никогда попусту не приставал к ним, более того, он джентельменски отшивал от них других кобелей, бестактно и не вовремя домогавшихся их благосклонности. Никогда не увязывался он за собачьими свадьбами, перекатывавшимися по пустырям и задворкам пестрым тявкающим клубом разновеликих шавок. Его опрятность доходила до курьезов и веселила моих друзей-охотников.
«Ну, Пыж, начинаются твои страдания!» — по пути с охоты, где Пыж лазал в болотах и вываживался в тине, предстояло перейти широкую, разбитую в черноземе тракторами и машинами дорогу. Чертыхаясь, мы перебредали ее по колено. Пыж, аккуратно обходивший в городе лужицы на асфальте, не мог лезть в грязищу. Он мотался вдоль большака, искал местечко посуше, находил выложенные кирпичи и старался ступать по ним, брезгливо поджимая лапы.
Как бы ни был он голоден — никогда не хапал он еду, ел неторопливо и аккуратно, не брызгал и не растаскивал куски. И почему-то всегда оставлял недоеденным «церемонный» кусочек: «бонтон» сомнительного свойства, но такова уж была привычка. И так же аккуратно, преувеличенно замедленно брал он угощение из рук.
Ему очень нравилось, когда кто-нибудь, спускаясь на его «уровень обитания», ложился на полу. «Улыбаясь» такому чудачеству людей, он спешил развалиться рядом и замирал в тихом блаженстве. Трогательно и необычно было видеть лежащим на полу рядом с собакой нашего друга Поэта, человека очень сдержанного, не терпевшего в людях неискренности и демонстрации чувств. Это называлось у него так: «пыжетерапия».
Пыжа любили наши друзья и знакомые, с ним можно было спокойно ехать в гости в любой, самый чопорный дом и быть уверенным, что пес не подведет и не оконфузит.
— Только с Пыжом! — обговаривали друзья, приглашая в гости.
В чужом доме он ложился там, где расстилалась прихваченная подстилка, это становилось его «местом». Если, соскучившись, его приглашали к столу — он подходил не спеша, клал на колени голову, помахивая хвостом, церемонно брал угощение и возвращался на место.
Мы часто бывали с Пыжом, а случалось, и жили по несколько дней в загородном домике моего давнего старшего друга, Старого Писателя. Нам отводилась маленькая летняя комната, где у Пыжа было постоянное место в широком жестком кресле. В этом доме, в свое время известном кровными охотничьими собаками, Пыж был желанным гостем. По вечерам во время неторопливых бесед-чаепитий он чинно сидел между мной и хозяином и бурчал потихоньку, когда его просили «рассказать» что он видел во сне или «почитать» развернутую перед ним газету.
— Будь он человеком, я думаю, он был бы не прочь пропустить и рюмочку, — посмеивался благодушно в усы Старый Писатель и, почти полностью ослепший в эти годы, ощупью находил голову Пыжа. Гладил ее сухой, с высокими мосолками рукой.
Пыж был дополнительной связью в моей дружбе с близкими мне людьми, я как бы чувствовал на себе отсвет их расположения к собаке.
С ним можно было без опаски ехать и в незнакомый дом. Однажды я даже рискнул его взять на утренник во Дворец пионеров. По знаку он вышел из-за кулис ко мне на сцену, по тихой команде «голос» «поздоровался» с ребятами, но, избегая слепящей рампы, допустил бестактность: сел к ребятам спиной.
Уверившись в его послушании, усвоенных привычках и рассудительности, я не брал его на сворку. Дойдя до края тротуара, он сам останавливался и ждал команды о переходе улицы. Так мы совершали длинные прогулки по Москве. Проходя мимо тренировочных собачьих площадок, я порой соблазнялся — слаб человек! — возможностью щегольнуть его исполнительностью. Достаточно было молча показать на бум, на лестницу — и Пыж легко и непринужденно, как бы играючи, пробегал по бревну, взбирался и опускался по крутым ступенькам, перепрыгивал через глухой забор. Проделав все это мимоходом, между прочим, мы шли дальше; оставляя в завистливом молчании владельцев громоздких упирающихся овчарок, для которых такая площадка была главным делом жизни…
Известно, что собаки, достаточно хорошо изучившие хозяина, угадывают его душевное состояние и соответственно настраиваются радостно, печально, задумчиво и тому подобное.
Пыж моментально догадывался, вышли ли мы просто погулять или встретить у дома ожидаемых гостей. Тут уж ему было не до прогулки; он напряженно приглядывался к сходившим на остановке, осматривал встречных, он ждал и издали узнавал знакомых. Но как он порой угадывал мои желания! Этого я не берусь объяснить.
Однажды мы, будучи с Пыжом в гостях, зашли навестить одного из старейших наших писателей, широко признанного литературного Мэтра, жившего в том же доме. Несмотря на годы, он продолжал плодотворно работать со свойственной ему энергией интеллекта и силой своего оригинального, парадоксального мышления. У него побаливали, слабели ноги, и он, всунув их в теплые расшнурованные ботинки, сидел под пледом в кресле.
Уходя, я чуть задержался в дверях, еще раз прощаясь с ним взглядом. Он все так же сидел, склонив на грудь голову с большим лбом, грустно смотрел вслед. Сердце у меня сжалось — так больно было видеть его, так вопиюще не вязалась мощь его духа с детски-беспомощной покорностью перед тем, что влекли годы… Вдруг Пыж вернулся из дверей к нему, молча положил на колени голову, глядя ему в лицо, и Мэтр, никогда не отличавшийся слабостью характера и сентиментальностью, мужественно перенесший на долгом веку многие жизненные и литературные потрясения, неожиданно прослезился, с чувством прижал голову собаки…
Совершенно противоположного свойства эпизод произошел на перроне в Воронеже, где у нас была пересадка. Я отправился компостировать билеты, а Алла с Пыжом остались у брезентовой кучи нашего «экспедиционного» барахла. Под вечер на вокзале началось массовое движение бутылконосов. По неясной для меня причине, а может, по случайному стечению обстоятельств у всех мужчин, проходивших перроном, в руках были бутылки — самые разные, из-под ситро, кефира, воды…
Необычный багаж и женщина с собакой привлекли внимание одного из носителей бутылок. Он остановился и, глумясь, стал кривляться и приставать к Алле. Я издали увидел это, бежал с билетами и досадовал: «Пыж, хоть бы турнул его… Такой большой, серьезный пес… Интеллигент несчастный…»
И Пыж, который считал невозможным «поднять руку» на человека, который смущенно «извинялся», если ему в тесноте электрички придавливали хвост, Пыж вдруг злобно ощетинился, кинулся к наглецу, и тот, отпрянув и разом отрезвев, трусливо ретировался, бормоча ругательства. Вмешиваться уже не пришлось. А Пыж все еще морщился, гневно покашливал вслед алкашу, и надо было видеть, сколько в его гримасе было гадливого презрения к человеческому подонку!
Пыж прожил у нас около тринадцати лет. Сколько же ему было всего? Специалисты, глядя на его зубы, уверенно заявили, что ему, когда он появился у нас, от роду было не более полутора-двух лет. Но безупречная белизна зубов сохранилась у него до старости, он все так же в пыль дробил сырые мослы: по зубам ему всегда можно было дать меньше лет, чем на самом деле.
В его безотцовском паспорте, который мы выправили на первой же выставке охотничьих собак, по экстерьеру стояло «очень хорошо» — высшее, что может получить пес без родословной. У него не было дефектов породы, исключая «некоторую нежелательную женственность общего вида», но это уж, пожалуй, из области вкуса. Судьба, отняв у него поначалу право участвовать — без родословной — в племенном воспроизводстве, оставив возможность лишь «бульварных» связей, в дальнейшем к нему благоволила: в него не стреляли, как в лайку моего знакомого, не украли на охоте, как это произошло с гончей моего другого приятеля, не удавили ради шапки… Сколько же человеческих выродков, омерзительной сволочи шевелится возле чистого дела охоты, влезает и пачкает ее!
К старости у Пыжа стали побаливать суставы и «очугунел», отяжелел крестец. Он все более осторожно укладывался спать и поднимался «по частям», как старик с разбитой поясницей, медленно, с кряхтеньем и вздохами, стараясь избежать острой боли, «размазать» ее во времени. Забыв об этом, прыгнув где-нибудь через канаву, он без видимой, казалось бы, причины вдруг вскрикивал — это давал знать о себе остеохондроз.
Первой, быть может, отметила приближение старости собаки дачная белка. Они с Пыжом были знакомы давно, у них установились отношения своеобразной игры в «охоту». Заслыша приближение к участку белки, перескакивавшей с дерева на дерево, Пыж встречал ее лаем. Белка приходила на нашу сосну с прибитым на стволе скворечником, прыгала по ветвям, возмущенно дергала взъерошенным хвостом и громко цокала, понося лайку. Выполнив этот ритуал, белка спускалась в скворечник и спала там, выставив в леток мордочку, а Пыж занимал исходное место у порога.