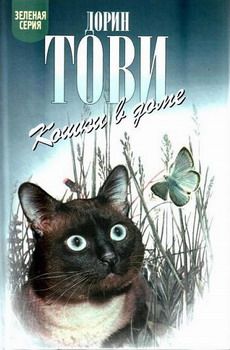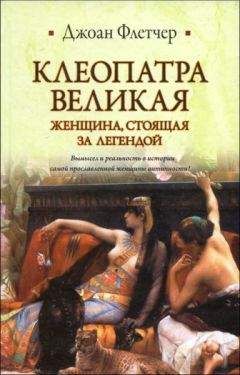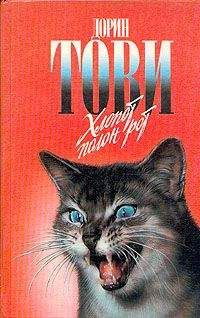Однажды мы приехали домой много позже наступления темноты, после того как долго добирались по снегу с расположенной на холме фермы. Пока Чарльз открывал гараж, чтобы дать Аннабель сена, я направилась в коттедж, зажигая по дороге свет на крыльце и в холле. Дрозда нигде не было. Впрочем, в это время ночи мы и не ожидали его увидеть. Я прошла уже половину холла, когда услышала звук ударяющейся о стекло птицы и бросилась назад. Снаружи ничего не было. Никаких признаков лежащей в снегу оглушенной птицы. Никакой птицы в саду. Чарльз сказал, что в любом случае дрозд не такой дурак, чтобы пытаться вступить с нами в контакт в такое время суток. Но получилось наоборот, и взбудораженный зажженным мной светом на крыльце, он все-таки попытался это сделать. На следующее утро, когда мы открыли дверь кухни, он, будто бы на корточках, на согнутых лапках, сидел на крыше угольного сарая. Получил травму при ударе о стекло? И что нам теперь с ним делать?
Он не позволял достаточно приблизиться, чтобы его поймать, и мы явно только пугали его этими попытками. Тогда нам пришло в голову лучшее, что могло в тех условиях, – бросить большой кусок картона на лужайку, где на него попадало бы солнце. Он приземлился, как плот, на площадку девственного снега метровой высоты, которую даже решительная пара сиамцев вряд ли могла преодолеть, если только не раздобыла бы где-нибудь санки.
Набросали на картон хлеба и шкурок от бекона; дрозд сразу сообразил, что к чему. Там он кормился и сидел, безопасно огражденный от внезапных атак, на сухом укромном месте, пока слабое мартовское солнце делало свою работу. Он пребывал там, если не считать тренировочных полетов, все свободное время, днями напролет. Мы подперли дверь угольного сарая, чтобы она держалась открытой, с надеждой, что дрозд использует сарай как укрытие на ночь. На тот случай, если он вместо этого спал на крыльце, мы с наступлением темноты запирали парадную дверь, выкручивали лампочки на крыльце и в холле, чтобы случайно не включить свет и не потревожить дрозда. В результате всякий раз, как звонил телефон, нам приходилось ощупью искать стол в холле, а Чарльз дважды споткнулся на лестнице.
Но в конечном счете оно того стоило. Лапки у черного дрозда были ушиблены, возможно, онемели от холода, но не были сломаны. Сначала одна, затем другая вернулись к нормальному состоянию. В тот момент, когда первая стала функционировать, он слетел вниз и встал на ней в дверях кухни, чтобы продемонстрировать нам свои успехи. При этом своим насмешливым чириканьем приветствовал кошек, которых этот маневр застал в холле на подоконнике, замышляющими, судя по выражению их морд, как бы им выбросить через лужайку спасательную шлюпку и таким образом добраться до пресловутого куска картона.
Гораздо больше пользы от них было бы, если б они прошли курс горного дела. Не считая сугробов, снег сейчас начал быстро таять, и пока таяла большая лужайка, мы обнаружили, что еще один обитатель большого мира, без сомнения, услышав, что мы любим животных, решил, что будет жить с нами. Теперь у нас был свой крот-поселянин.
Да похоже, не один, а десятки, если судить по бугоркам, вздыбившимся, словно горные цепи, там, где когда-то была плоская зеленая полянка. Но старик Адамс сказал, что крот всего один, и предложил поставить ловушку. Чарльз возразил, что мы на такое не способны и у нас теперь есть прекрасный случай его изучить. Я тоже не хотела заманивать крота в капкан, но установила пределы изучения, ограничив процесс нашей лужайкой перед входом. Как-то раз Чарльз вошел в дом и сказал, что если я потихоньку выйду наружу, то смогу по-настоящему его увидеть. Он заверил, что зверек смотрел на него из норы, а много ли людей могут похвастаться тем, что видели такое в собственном саду? Я осведомилась, в каком именно бугорке он его видел, вышла во двор и прыгнула. Не на сам бугорок, у меня не было желания навредить кроту. Я просто подумала, что некоторая локальная вибрация сможет выманить зверька.
Это сработало. Правда, какие-то проходившие по переулку люди посмотрели на меня несколько странно, когда увидели, как я исполняю вокруг кротового холмика что-то вроде воинственной пляски, но это сработало. Больше у нас на той площадке кротовьих бугорков не было. Один-два появились было на нижней лужайке, но когда я попрыгала и там, эти попытки тоже прекратились.
К несчастью, крот после этого впал в исступление и стал появляться под каменной брусчаткой, которой Чарльз выкладывал в саду дорожки, причем передвижения крота были отмечены длинными тонкими линиями вздыбленной земли между камнями, наподобие шлейфа дыма от экскурсионного поезда. Совесть мучила меня видениями, как крот, желая глотнуть свежего воздуха, то и дело натыкается на брусчатку, и большим облегчением стало, когда его след снова повернул к нижней лужайке. На сей раз никаких прыжков с нашей стороны не последовало; мы не хотели, чтобы он вновь оказался под этими булыжниками… Наконец он вышел за пределы участка. Подлез под стеной и углубился в лес, где предположительно живет и по сей день, рассказывая о своих приключениях в стране землетрясений.
Зима – наихудшая зима, что мы пережили за много лет, – теперь сходила на нет, но два сувенира от нее остались с нами, как вечные и незыблемые законы. Пристрастие Аннабель к горячему питью на ночь и решение кошек спать внизу. Открытие Аннабель горячих напитков пришло не в результате нашего потакания ее изнеженным нравам, а оттого, что мы хлопотали, чтобы она вообще получала питье. Она ни в какую не желала пить, когда ей впервые вынесли ведро с водой. Не хотела, и все тут. Она вообще не любит воду, фыркала она, когда ее уговаривали. К тому времени, как ей все же приходила охота попить, ведро в эту зиму неизменно бывало замерзшим. Поэтому перед тем, как отнести ей воды, мы начали вливать туда полный горячий чайник, в надежде, что вода дольше сохранится в жидком состоянии. Аннабель, заинтригованная паром, немедленно его исследовала. Для ее носа тепло, должно быть, казалось чудесным, а тем более для ее желудка, когда попадало туда, поверх всего проглоченного сена.
Она пила теплую воду, словно это был нектар, – длинными, шумными глотками, с причмокиванием в конце. Мы, сами любя наше горячее питье, полюбили относить горячее питье и ей. И в результате, когда мороз уже давно спал и настали более комфортные ночи, мы все еще по вечерам пыхтели с дымящимися ведрами, и если видели, как мимо идет кто-то посторонний, то незаметно прятали их в парник. У нас не было желания обнаруживать перед людьми, что если мы пытаемся отправить нашу ослицу спать без горячего питья, она оглашает округу громкими воплями.
Нечто похожее случилось и с кошками. С самого своего рождения они спали, если только у нас не было гостей, в соседней свободной комнате. Там, если они дрались ночью, или падали во сне, или считали, что неважно себя чувствуют, мы могли сразу их услышать и прийти на помощь. Там было также то преимущество, что они не могли попортить мебель, потому что единственным обитым предметом было кресло, в котором они спали, чью обивку и внутренность из джута они уничтожили давным-давно, еще будучи котятами.
В ту зиму, однако, было так холодно, что даже при двух грелках они поднимали нас в два часа ночи, протестуя против того, что у них от холода отваливаются ушки. Мол, пожалуйста, пустите их к себе в кровать. Если мы уступали, то спать уже не могли. Соломон, будучи моим котом, настаивал на том, чтобы свернуться клубочком щека к щеке со мной. Если Шеба проявляла признаки желания пробраться на мою сторону, он прижимался еще сильнее и собственнически ложился ко мне на лицо. Если она все же подбиралась ближе, он кусал ее за лапу, после чего Шеба с шипением взвивалась, как петарда, уходила и садилась одиноко, как сиротка, у меня в ногах. Она ни в какую не хотела спать на половине Чарльза. Чарльз, говорила она, ерзает. Поэтому она либо сидела подавленно на моих ногах и мерзла, либо возвращалась, и спектакль с Соломоном повторялся сначала. Соломон, даже если в итоге он все же смягчался и подпускал ее ко мне, все равно, как только засыпал, начинал храпеть и подергивать лапами. Так что в конце концов мы устроили их на ночлег в гостиной.
Грелки и одеяла уложены в большом кресле перед камином. Еда, миска с водой и туалетные лотки удобно выстроены в линию, так что у них получался аналог роскошной отдельной квартиры. С тех пор мы шли спать, оставив двух маленьких кошечек сидеть в полном довольстве на каминном коврике, в свете очага, в такой позе, что картинка несколько напоминала рождественскую открытку. Увы, в тот самый момент, отправившись наверх, картинка сводилась к звуку скребущих когтей под нами, во славу обивки на стульях, к звуку Больших национальных сиамских скачек с препятствиями по мебели (на сей раз все было дружелюбно, судя по тому, как резко менялось направление: Соломон, гоняясь за Шебой, к собственному горячему восторгу, менялся с ней ролями) и к басовитому кошачьему отклику на наши протестующие возгласы и стучание в пол – отклику, заверявшему нас, что там, внизу, все в порядке, они с Шебой просто наслаждаются жизнью.