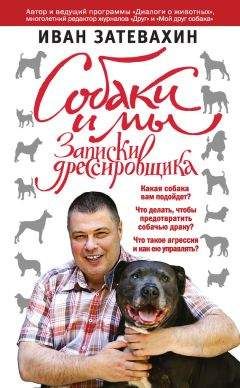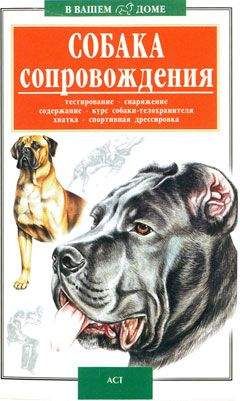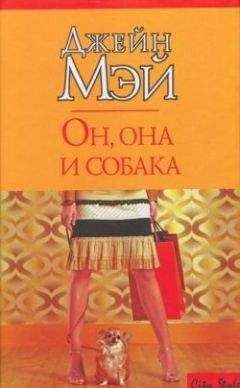Ознакомительная версия.
— Потому что она продана. Вот почему.
— Продана! — повторил мальчик на звонком крике. — Продана! Зачем же вы ее продали… нашу Лесси… зачем вы ее продали?
Мать в сердцах повернулась к нему:
— Она продана, ее увели, и дело с концом. Нечего тут выспрашивать. Теперь ничего не изменишь. Собаки нет, и все. Не будем больше об этом говорить.
— Но как же, мама…
Мальчик кричал звонко и растерянно. Мать перебила:
— Довольно! Давайте чай пить! Ну же! Садитесь!
Мальчик послушно сел за стол, на свое место. Мать повернулась к мужу, к очагу:
— Садись же, Сэм, поешь. Хотя, сказать по правде, угощение у меня к чаю скудное…
Женщина притихла, когда муж встал с сердитой решимостью. Но, не сказав ни слова, он прошел к дверям, снял шапку с крюка и вышел вон. Хлопнула дверь. С минуту в комнате молчали. Потом женщина бранчливо завела:
— Видишь, что ты наделал! Совсем рассердил отца. Теперь ты, конечно, доволен.
Она устало опустилась в кресло и уставилась на скатерть. В комнате долго молчали. Джо знал, что мать не права, виня его в случившемся. Но он знал и то, что мать таким путем прикрывает собственную боль. Это то же самое, как если она бранится. Так уж оно повелось у людей в этих местах. Люди здесь суровы, упорны, привыкли жить суровой, трудной жизнью. Когда случается что-нибудь, что их волнует, они прячут свои чувства. Женщины бранятся и ругаются, чтобы скрыть обиду. Их брань ничего не значит. Отбранятся, и все…
— Ладно, Джо. Ешь!
Голос матери звучал теперь мягко и терпеливо. Мальчик смотрел на тарелку и не двигался.
— Ешь, Джо. Намажь себе хлеб. Смотри, хлеб свеженький, я сегодня только испекла… Что, не хочешь?
Мальчик низко опустил голову.
— Не хочу ничего, — прошептал он.
— Ох, собаки, собаки, собаки! — вспылила мать. Голос ее опять стал сердитым. — Столько шуму из-за одной собаки! Хорошо, если хочешь знать, я рада, что Лесси нет. Право слово! Возни с ней и заботы не меньше, чем с ребенком! Теперь ее нет, и заботе конец, и я рада, право. Я рада!
Миссис Керраклаф повела полным плечом, шмыгнула носом. Потом вынула платок из кармана фартука и высморкалась. И только тут решилась поглядеть на сына, который все еще сидел не двигаясь. Она печально покачала головой, а когда заговорила вновь, голос ее был опять терпеливым и добрым.
— Джо, поди сюда. — сказала она.
Мальчик поднялся и стал подле матери. Она обняла его своей полной рукой и начала, обратив лицо к огню:
— Так что, Джо, ты уже взрослый мальчик, ты можешь это понять. Ты видишь… ну да, ты же знаешь, время нелегкое… Ты знаешь, как обстоит дело. Нужно покупать еду, нужно платить хозяину за дом, а за Лесси давали хорошие деньги, и… Словом, мы не могли себе позволить… не могли оставить ее у себя, вот и все. Настала тугая пора, ты не должен… не должен огорчать отца. Он и так не находит себе покоя… и… ну, вот и все! Собаки нет.
Керраклаф-младший стоял у очага бок о бок с матерью. Он понял. В Гринол-Бридже даже двенадцатилетние мальчики знали, что такое «тугая пора».
Много-много лет, все годы на их детской памяти, их отцы работали в Веллингтонских копях, за поселком. С едою в кошелке, с шахтерской лампой на лбу они ходили каждый день на смену и со смены; они работали, добывая много угля. Потом настала «тугая пора». Шахта перешла на «неполную неделю», и шахтеры зарабатывали меньше. Временами опять начиналось оживление, и люди опять работали полную неделю.
Все тогда радовались. Конечно, и тут бывало далеко до роскоши — в шахтерских поселках и в лучшие времена люди живут трудной жизнью, — но в такую пору все хоть чувствовали себя уверенно, в семьях был мир и лад и еды на стол подавалось вволю, ее хватало на всех.
Несколько месяцев назад шахту закрыли совсем. Большой ворот у спуска в ствол уже не крутился. Люди не стекались на дворе шахты перед каждой новой сменой. Вместо того они ходили отмечаться на биржу труда. Они толпились на углу возле биржи в ожидании работы. Но работы не было. Они, по-видимому, оказались, как называли это газеты, в одном из «пораженных районов», то есть в той части страны, где заглохла всякая промышленность. Люди целыми поселками сидели без работы. Не было никакой возможности заработать на жизнь. Правительство выплачивало людям пособие — еженедельную денежную выдачу, чтоб они не померли с голоду.
Джо это знал. Он слышал, о чем толковали люди в поселке. Видел мужчин, толпившихся у биржи труда. Он знал, что его отец не ходит больше на работу. Знал также, что мать с отцом никогда при нем об этом не говорят, что в грубой своей доброте они стараются сами нести все тяготы жизни, не давая им ложиться на его детские плечи.
Но, хотя ум ему говорил все это, сердце кричало о Лесси. Он, однако, принудил его молчать. Он стоял, не двигаясь с места, потом задал только один вопрос:
— Нам можно будет когда-нибудь откупить ее обратно, мама?
— Видишь ли, Джо, она оказалась очень ценной собакой, а нам держать ее стало не по карману. Но мы как-нибудь заведем себе другую собаку. Подожди немного. Наступит более легкая пора, и мы тогда возьмем в дом щенка. Ты хотел бы?
Джо Керраклаф понурился и тихо покачал головой. Голос его упал до шепота:
— Не нужно мне другой собаки. Никакой и никогда!.. Мне нужна только… только Лесси!
Глава третья
ЗЛОБНЫЙ СТАРИК
Герцог Радлинг стоял у живой изгороди из рододендрона и поводил вокруг горящим взглядом. Он снова поднял голос.
— Хайнз! — заорал он. — Хайнз! Что за человек, куда он делся? Хайнз!
Сейчас, с раскрасневшимся лицом, с копной растрепанных седых волос, герцог выглядел как раз таким, каким его считали: самым злобным стариком на все три райдинга[3] графства Йоркшир.
Справедлива ли была такая репутация или же нет, герцог, мы скажем, вполне ее заслужил своим поведением и манерой разговаривать.
Возможно, она создалась отчасти оттого, что герцог был изрядно глух, а потому со всяким человеком говорил так, точно командовал на смотре бригадой пехоты, как ему и вправду доводилось это делать когда-то, много лет назад. А еще он имел обыкновение ходить не с тросточкой, а с суковатой палкой, которой он всегда яростно размахивал в воздухе, чтобы придать еще больше резкости своим и без того слишком резким словам. И, наконец, его злоба происходила от его нетерпимого отношения ко всему на свете. Ибо герцог был твердо уверен в одном: что мир, как он выражался, «идет к чертям». В наши дни все не так, как в пору его молодости. Лошади скачут не так быстро, молодые люди не так смелы и удалы, женщины не так красивы, цветы не так хороши, а собаки… если и осталось на свете несколько неплохих собак, так только потому, что они принадлежат ему, герцогу.
Герцог считал, что люди нынче не умели даже так чисто говорить по-английски, как говорили, когда он был молод. Он был убежден, что и слышит он плохо не потому, что почти оглох, а потому, что у людей в наши дни завелась скверная привычка комкать и корнать слова, вместо того чтобы просто говорить, как говорили, когда он был молод.
А уж молодое поколение! Герцог мог часами рассуждать о том, что ни один человек, родившийся в двадцатом веке, никуда не годен.
Это было тем более странно, что изо всей его родни единственным, кого герцог мог выносить (и кто, как видно, мог выносить герцога), был самый младший член его семьи — его двенадцатилетняя внучка Присцилла.
Она и сейчас пришла ему на помощь, когда он стоял у рододендроновой изгороди и звал, грозя своей палкой.
Увильнув от яростного взмаха, она подскочила к деду и дернула за карман его широкой куртки из мягкой ворсистой шерсти. Он повернул к ней свои взъерошенные усы.
— А, это ты! — закричал он. — Удивительно, что хоть кто-то наконец пришел. Не знаю, до чего дойдет мир. Слуги никуда не годятся! Никто не слышит — оглохли! Англия идет к чертям!
— Ерунда, — сказала Присцилла.
Это была самоуверенная юная леди, весьма независимая в своих суждениях. Постоянно находясь при дедушке, она приучилась смотреть на него и на себя, как на равных — то ли двое престарелых детей, то ли пара молоденьких взрослых.
— Что такое? — заорал герцог, глядя на нее с высоты своего роста. — Говори ясно! Не шамкай!
Присцилла пригнула его голову книзу и прокричала ему прямо в ухо:
— Я сказала: «Ерунда».
— Ерунда? — повторил герцог.
Он поглядел на нее, потом расхохотался. У него было насчет Присциллы свое особое мнение. Он был убежден, что если у Присциллы хватало храбрости ему перечить, то храбрость свою она, конечно, унаследовала от него.
Вот почему, когда герцог посмотрел с высоты своего роста на внучку, у него сразу поднялось настроение. Он распушил свои длинные белые усы, которые были у него куда пышней и красивей, чем те усики, какие мужчины умудряются себе отращивать в наши дни.
Ознакомительная версия.