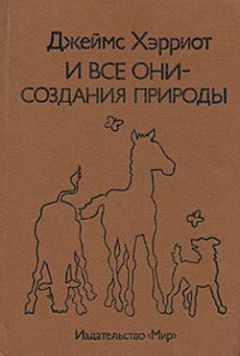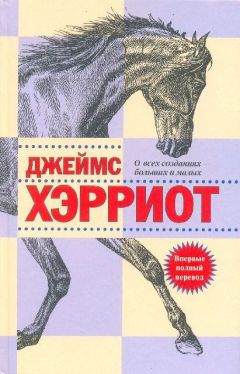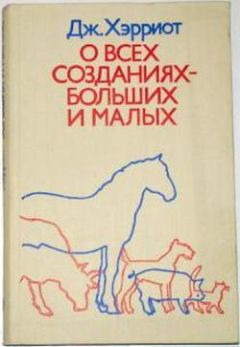– Это не простуда. У него неладно с веками.
– А?
Я набрал побольше воздуху и завопил во всю мочь:
– У него заворот век. Это довольно серьезно.
Старик снова кивнул.
– Да уж, он все лежит головой к двери, а там дует.
– Нет, мистер Клоуз, – взревел я. – Сквозняк тут ни при чем. Это заворот век, и требуется операция.
– Ваша правда, молодой человек. – Он отхлебнул пива. – Остудил их маленько. Все застуживает, еще как щенком был…
Я безнадежно побрел на свое место. Тед Добсон с интересом спросил:
– О чем это вы с ним толковали?
– Скверное дело, Тед. При завороте век ресницы трут глазное яблоко. Это причиняет сильную боль, а иногда приводит к изъязвлению и даже к слепоте. Но и в самых легких случаях собака очень мучается.
– Вот, значит, что… – задумчиво сказал Тед. – Я давно замечал, что у Мика с глазами неладно. А последнее время они куда хуже стали.
– Бывает и так, но чаще это врожденный порок. Я бы сказал, что у Мика это в определенной степени всегда было, но вот теперь по какой-то причине они пришли в такое жуткое состояние. – Я вновь посмотрел на старого пса, который терпеливо сидел под столом, крепко зажмурившись.
– Значит, он очень мучается?
Я пожал плечами.
– Вы же сами знаете, каково это, если в глаз попадет песчинка или даже одна ресница завернется внутрь. Конечно, резь он испытывает невыносимую.
– Бедняга! Мне и в голову не приходило, что тут такое дело. – Он затянулся сигаретой. – А операция помогла бы?
– Да, Тед. Знаете, ветеринару она доставляет особое удовлетворение. Я всякий раз чувствую, что по-настоящему помог животному.
– Оно и понятно. Хорошее, должно быть, чувство. Но небось стоит такая операция недешево?
Я криво улыбнулся:
– Как посмотреть. Работа сложная и требует много времени. Мы обычно берем за нее фунт.
Хирург-окулист, конечно, только посмеялся бы над таким гонораром, но и эта сумма была не по карману старику Альберту.
Некоторое время мы оба молча смотрели на старика, на ветхую куртку, на лохмы штанин, прикрывающие растрескавшиеся башмаки. Фунт. Половина месячной пенсии по старости. Целое состояние.
Тед вскочил.
– Надо же старику объяснить. Я ему сейчас втолкую.
Подойдя к дряхлому пастуху, он спросил:
– Ну как, Альберт, еще одну сдюжишь?
Старик посмотрел на него смутным взглядом, потом кивнул на свою уже вновь пустую кружку.
– Ладно, подлей капельку, Тед.
Тед махнул мистеру Уотерсу и нагнулся к уху старика.
– Ты понял, что тебе толковал мистер Хэрриот, а, Альберт? – прокричал он.
– Как же… как же… Мик маленько глаза застудил.
– Да нет же! Это совсем другое. У него это самое… заворот век!
– Все застуживает и застуживает, – бубнил Альберт, уткнувшись носом в кружку.
Тед буквально взвыл:
– Ах ты упрямый старый черт! Слушай, что тебе говорят: ты бы его подлечил! Ему нужно…
Но старик уже ушел в себя.
– Еще как щенком был… все застуживал, все застуживал…
В тот вечер Мик отвлек меня от собственных невзгод, но потом я никак не мог забыть эти страшные глаза. У меня руки чесались привести их в порядок. Я знал, что час работы вернет старому псу мир, которого он, возможно, не видел годы и годы, и все во мне твердило: мчись в Коптон, сажай его в машину, вези в Дарроуби, оперируй. Деньги меня не интересовали, но беда в том, что такая импульсивность несовместима с нормальной практикой.
На фермах я часто видел хромых собак, а на улицах – тощих кошек. С какой бы радостью я хватал их и излечивал с помощью своих знаний! По правде говоря, я несколько раз даже попробовал, но ничего хорошего из этого не вышло.
Конец моим терзаниям положил Тед Добсон. Он приехал в Дарроуби навестить сестру и вечером возник в дверях приемной, придерживая велосипед. Его веселое, умытое до блеска лицо сияло так, что, казалось, озаряло всю улицу. Он обошелся без предисловий.
– Вы бы не сделали старику Мику эту операцию, мистер Хэрриот?
– Да, конечно, но… как же..?
– Об этом не беспокойтесь. Ребята в "Лисе и гончих" заплатят. Возьмем из клубной кассы.
– Из клубной кассы?
– Мы каждую неделю вносим понемножку на летнюю поездку. Может, всей компанией к морю махнем, может, еще куда.
– Тед, это просто замечательно, но вы уверены, что никто не будет против?
Тед засмеялся.
– От одного фунта мы не обеднеем. Да и, сказать честно, мы в таких поездках, бывает, перепиваем, так оно, может, даже и к лучшему. – Он помолчал. – А ребята все этого хотят. Как вы нам объяснили, что с псом, так у нас теперь сил нет на него смотреть.
– Чудесно, – сказал я. – Но каким образом вы его привезете?
– Мой хозяин обещал дать свой фургон. В среду вечером вам будет удобно?
– Вполне.
Я проводил его взглядом и пошел назад по коридору. Может быть, на современный взгляд непонятно, почему из-за какого-то жалкого фунта было столько переживаний. Но в те дни это была большая сумма – достаточно напомнить, что я, дипломированный ветеринар, работал за четыре фунта в неделю.
В среду вечером стало ясно, что операция Мика превратилась в торжественное событие. Небольшой фургон, в котором его привезли, был набит завсегдатаями "Лисы и гончих", а те, кому не хватило места, прикатили на велосипедах.
Старый пес брел по коридору к операционной, весь съежившись, и ноздри его подергивались от непривычных запахов карболки и эфира. Позади него, стуча сапогами, шла его шумная свита.
Тристан, взявший на себя роль анестезиолога, поднял собаку на стол, и я обвел взглядом множество лиц, смотревших на меня со жгучим интересом. Обычно я не люблю, чтобы на операции присутствовали посторонние, но эти люди имели право наводиться здесь – ведь без них не было бы и операции.
Теперь, в ярком свете операционной, я впервые хорошенько разглядел Мика. Он во всех отношениях был бы красавцем, если бы не эти страшные глаза. Он вдруг приоткрыл их, скосил на меня и тут же зажмурился от сияния лампы. Вот так, подумал я, он и жил всю жизнь – изредка поглядывая сквозь боль на то, что его окружало. Инъекция снотворного в вену была для него сущим благодеянием – она на время избавляла его от страданий.
Вот он в глубоком сне вытянулся на боку, и можно наконец приступить к осмотру. Я раздвинул веки, морщась при виде слипшихся ресниц, мокрых от слез и гноя. Давний конъюнктивит и давний кератит, но я с огромным облегчением убедился, что до перфорации роговицы дело не дошло.
– Знаете, – сказал я, – вид достаточно скверный, но, по-моему, ничего непоправимого нет.
"Ура" они все-таки не закричали, но обрадовались очень, и атмосфера стала совсем праздничной от их шушуканья и смеха. Беря скальпель, я подумал, что мне никогда еще не приходилось оперировать в такой тесноте и таком шуме.
Сделать первый надрез было прямо-таки наслаждением – ведь я столько раз предвкушал этот момент. Начав с левого глаза, я провел скальпелем параллельно краю века, потом сделал дугу, чтобы захватить примерно полдюйма кожи над глазом. Я удалил этот лоскуток пинцетом и, сшивая кровоточащие края раны, с большим удовольствием следил, как ресницы поднимаются высоко над поверхностью роговицы, которую они раздражали, возможно, годы и годы.
С нижнего века я, как обычно в таких случаях, удалил лоскуток поменьше и принялся за правый глаз. Легко и спокойно я сделал надрез и вдруг осознал, что в комнате наступила тишина. Правда, они шепотом переговаривались, но смех и болтовня смолкли. Я поднял голову и прямо против себя увидел верзилу Кена Эплтопа, конюха из Лорел-Грув. Естественно, что я посмотрел именно на него, потому что ростом он вымахал под семь футов, а сложен был, как ломовые лошади, за которыми он ходил.
– Черт, ну и жарища тут, – шепнул он, и действительно по его лицу струился пот.
Я был поглощен работой, не то заметил бы, что он к тому же и побелел как полотно. Я подцеплял надрезанную кожу пинцетом и тут услышал крик Тристана:
– Поддержите его!
Приятели успели подхватить великана и опустили его на пол, где он и пролежал в тихом забытьи, пока я накладывал швы. Мы с Тристаном успели вымыть и убрать инструменты, прежде чем Кен открыл глаза и с помощью приятелей поднялся на ноги. Теперь, когда все было уже позади, компания вновь оживилась, и Кену пришлось выслушать немало дружеских насмешек, хотя позеленел во время операции не он один.
– По-моему, Кену не помешает глоток чего-нибудь покрепче, – заметил Тристан, вышел и через минуту вернулся с бутылкой виски, которым с обычным своим радушием угостил всех. В ход пошли мензурки, крышки, пробирки, и вскоре вокруг спящего пса вновь забушевало веселье. Когда фургон, рыча мотором, унесся в темноту, в его тесном нутре гремела песня.
Через десять дней они привезли Мика, чтобы снять швы. Раны зажили, но роговица все еще была воспалена и старый пес по-прежнему болезненно жмурился. Окончательный результат моей работы мне довелось увидеть только месяц спустя.