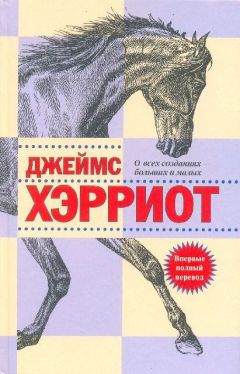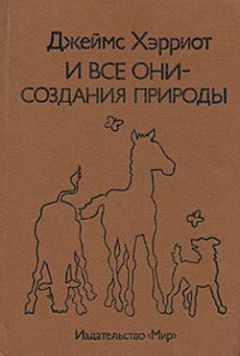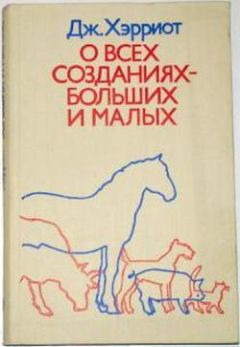Мы перекусили на ипподроме — с копченой лососиной, холодным цыпленком и шампанским Зигфрид обходился с непринужденностью старого знакомого. И было совершенно очевидно, что он одерживал победу за победой, беседуя с мужчинами о скачках, как знаток, и в равных долях распределяя свое обаяние между их женами. Грозная миссис Рэнсом прямо-таки кокетливо хихикала, когда он делал пометки на ее программке. Если его контракт с ассоциацией действительно зависел от его поведения на ипподроме и решение принималось бы в эту минуту, его кандидатура была бы поддержана единогласно.
Потом мы спустились посмотреть на лошадей, участвующих в первом заезде, и Зигфрид просто расцвел, озирая открывшееся перед нами зрелище. Толпы зрителей, вопящие букмекеры, красивые лошади. Их жокеи, миниатюрные, колоритные крепыши, переговаривались с тренерами. Зигфрид выпил ровно столько шампанского, чтобы его восприятие обострилось, и он был идеальным воплощением человека, с неколебимой уверенностью предвкушающего на редкость удачный день.
К нам, посмотреть первый заезд, присоединился Мерриуезер, местный ветеринар. Зигфрид был с ним шапочно знаком, а потому они продолжали беседовать и после конца заезда, как вдруг был поднят сигнал: «Вызывается ветеринар», — и тут же к Мерриуезеру подбежал какой-то человек.
— Лошадь, которая поскользнулась на последнем повороте, все еще лежит и вроде бы не может встать.
Мерриуезер бросился к машине, стоявшей в полной готовности на дорожке за барьером. Он обернулся к нам.
— Хотите со мной? Вы оба?
Зигфрид вопросительно взглянул на дам и на генерала с полковником, получил в ответ милостивые кивки, и мы поспешили за нашим коллегой.
Несколько секунд спустя мы уже неслись к последнему повороту. Мерриуезер отчаянно вцепился в руль, когда колеса запрыгали по дерну, и проворчал себе под нос:
— Черт! Надеюсь, это не перелом. Ненавижу пристреливать лошадей!
То, что мы увидели, прибыв на место, ничего хорошего не сулило. Поблескивая глянцевитой шерстью, лошадь лежала на боку совершенно неподвижно. Только ребра тяжело поднимались и опускались в такт затрудненному дыханию.
Возле ее головы стоял на коленях жокей. Из рассеченного лба у него текла кровь.
— Сэр, как по-вашему, нога у него сломана?
— Поглядим. — Мерриуезер начал ощупывать вытянутые ноги коня, проводя сильными пальцами по одной кости за другой, осторожно сгибая суставы — скакательный, коленный, плечевой, запястный.
— Все в порядке. Переломов нет, это твердо. — Внезапно он указал на голову. — Посмотрите на его глаза.
Мы посмотрели. Они остекленели, глазные яблоки подергивались, хотя и еле заметно.
— Сотрясение мозга? — сказал Зигфрид.
— Бесспорно. Он просто стукнулся головой. — Мерриуезер поднялся с колен, лицо у него прояснилось. — Давайте-ка перевернем его на грудь. Думаю, с небольшой помощью он сумеет встать.
Желающих помочь в толпе зрителей нашлось с избытком, и коня без особого труда перекатили так, что он теперь опирался на грудную кость, вытянув передние ноги. Пролежав в этой позе минуты две, он кое-как поднялся на ноги и стоял пошатываясь. Подошел грум и увел его.
Мерриуезер засмеялся.
— Ну, кажется, обошлось. Хороший конь. Думаю, ему надо отдохнуть, и все будет в порядке.
Зигфрид открыл было рот, чтобы ответить, но тут из-за барьера до нас донеслось настойчивое «эй! эй!». Мы оглянулись. Грузный краснолицый мужчина энергично махал нам руками.
— Эй! Эй! — повторял он. — Пойдите-ка сюда на минутку.
Мы подошли. Что-то в лице толстяка заинтересовало Зигфрида. Он пристально всмотрелся в широко улыбающееся пухлое лицо, в слипшиеся прядки черных волос, упавшие на лоб, и вдруг радостно воскликнул:
— Господи помилуй! Стьюи Брэннан! Джеймс, познакомьтесь с еще одним коллегой — мы вместе учились в колледже!
Зигфрид много рассказывал мне о Стьюи Брэннане. Так много, что мне казалось, будто я пожимаю руку старому другу, которого никогда не забывал. Порой мы с Зигфридом просиживали за бутылкой вина в гостиной Скелдейл-хауса чуть не до утра, предаваясь воспоминаниям о временах нашей юности, рассказывая друг другу о колоритных личностях, с которыми нас сводила судьба. Я вспомнил, как он рассказывал, что намного обогнал Стьюи и получил диплом, пока Стьюи еще корпел на третьем курсе. По словам Зигфрида, Стьюи был начисто лишен честолюбия, не любил заниматься и предпочитал ходить небритым и немытым — короче говоря, по мнению Зигфрида, он принадлежал к тому типу молодых людей, которые редко чего-то добиваются в жизни. Но в нем была какая-то трогательность: безыскусственность ребенка, огромная, всеобъемлющая симпатия ко всем людям, неугасимый оптимизм.
Зигфрид крикнул Мерриуезеру:
— Пожалуйста, если вас не затруднит, передайте моим друзьям, когда вернетесь, мои извинения, хорошо? Мне надо кое-кого повидать. Я задержусь только на несколько минут.
Мерриуезер помахал нам, сел в свою машину и поехал назад, а мы нырнули под барьер.
Зигфрид ухватил толстяка за локоть.
— Пошли, Стьюи! Где тут можно выпить?
Протирка стёкол дохлой курицей
Мы вошли в длинный бар с низким потолком под трибуной, и я испытал некоторый шок. Мы находились под самыми дешевыми местами, так что картина была несколько иной, чем в ресторане за ложами. Ели и пили тут в основном стоя, а выбор блюд исчерпывался пирожками и сосисками в тесте.
Зигфрид проложил себе дорогу к стойке и вернулся с тремя стопками виски. Мы сели за один из малочисленных столиков — колченогий, с металлическим верхом. За соседним столиком субъект с хищной физиономией штудировал «Спортивную газету», вгрызаясь в рулет со свининой и запивая его огромными глотками из пинтовой кружки.
— Ну, а теперь, мой мальчик, — сказал Зигфрид, — что ты поделывал последние шесть лет?
— Ну-у, дай сообразить, — сказал Стьюи и рассеянно, одним глотком покончил со своим виски. — После того как ты разделался с колледжем, экзамены я сдал довольно скоро, и в целом не так уж плохо, хотя хирургию только с третьего захода. Короче говоря, четыре года назад я получил право измываться над бессловесными животными. И с тех пор больше скитался. Север, юг и даже полгода в Ирландии. Все пытался найти место с доходами, на которые можно прожить. На три-четыре фунта в неделю не пороскошествуешь, когда у тебя на руках семья.
— Семья? Так ты женился?
— Еще как! Помнишь малютку Мег Гамильтон? Я приходил с ней на танцульки в колледже. Мы поженились, когда я был на последнем курсе. Теперь у нас пятеро детей и шестой на подходе.
Зигфрид поперхнулся виски.
— Пятеро детей! Побойся Бога, Стьюи!
— Так это же чудесно, Зигфрид! Наверное, ты удивляешься, как мы вообще существуем. Объяснить это я тебе не могу. Сам не понимаю. Но как-то справлялись и были счастливы. А теперь, думается, все будет хорошо. Пару месяцев назад я прибил свою дощечку в Хенсфилде, и дела идут хорошо. На прожитие хватает, а больше-то и не надо.
— Хенсфилд? — повторил Зигфрид, и мне представился угрюмый город, типичный для Уэст-Райдинга, — облезлые кирпичные джунгли, щетинящиеся фабричными трубами. Совсем другой Йоркшир.
— Полагаю, работаешь ты с мелкими животными, — добавил Зигфрид.
— Угу. Снискиваю свой хлеб насущный почти исключительно тем, что отделяю местных котов от их причиндалов. Благодаря мне хенсфилдские кошечки могут гулять по улицам, не опасаясь покушений на их добродетель.
Зигфрид засмеялся и поймал за локоть единственную официантку этого заведения, пробегавшую мимо. Она обернулась, сердито хмурясь, готовая поставить нахала на место, но, едва взглянув на него, улыбнулась.
— Что угодно, сэр?
Зигфрид, не выпуская ее локтя, несколько секунд вглядывался в ее лицо, а потом сказал невозмутимо:
— Вы не будете столь любезны принести нам три большие стопки виски, а потом повторить заказ, едва заметите, что мы его допили. Можно вас об этом попросить?
— Ну, конечно, сэр, конечно! — Официантке было за сорок, но покраснела она, как юная девушка.
Подбородки Стьюи задрожали от беззвучного смеха.
— Старый ты прохиндей, Фарнон! До чего приятно видеть, что ты совсем не изменился.
— Правда? Так это же хорошо, а?
— И самое странное, что ты, по-моему, и не стараешься вовсе.
— Не стараюсь? В каком смысле не стараюсь?
— А, ладно! Забудем. Вот и виски.
Стопки наполнялись снова и снова, а они говорили, говорили, говорили. Я помалкивал и только слушал, по-груженный в сладкую эйфорию, и каждую вторую свою стопку незаметно придвигал к Стьюи, а он мгновенно небрежным поворотом кисти осушал ее.
Зигфрид повествовал о собственных успехах, и меня поразило, насколько Стьюи была чужда зависть. Толстяк с искренней радостью слушал про быстро растущую практику, про красивый старинный дом, про необходимость обзавестись помощником. Зигфрид, когда рассказывал мне о своих студенческих днях, описывал Стьюи как «полноватого», но теперь он был просто жирен, несмотря на нелегкую жизнь. И я слышал от Зигфрида про это пальто «с военно-морским» ворсом, которое в колледже служило ему единственной защитой от капризов погоды. Вряд ли оно и тогда выглядело особенно элегантным, но теперь, безусловно, являло собой жалкое зрелище, почти лопаясь по швам под давлением тела, раздавшегося в ширину.