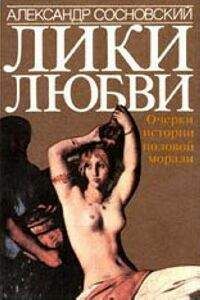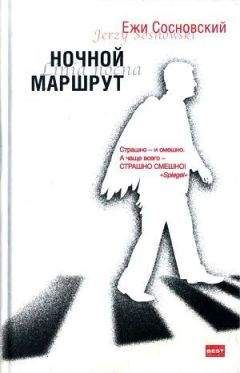Не менее удручающе обстояло дело с внебрачными рождениями. В период 1896—1905 гг. они составили в среднем от общего числа населения около 5—10%. Война еще более усугубила ситуацию и сказалась на заметном увеличении этих показателей. Рост числа внебрачных детей имел серьезные последствия: будучи наиболее уязвимыми и незащищенными в социальном плане, незаконнорожденные граждане чаще всего пополняли собой армию люмпенов, безработных, потенциальных преступников. В декабре 1905 г. в Париже была арестована шайка малолетних воришек, орудовавшая на улицах и в магазинах. Ими командовала 13-летняя Элиза Кайль, по прозвищу «прекрасная Альета». Очаровательное маленькое создание в длинном платье и громадной шляпе самого модного покроя с беспримерным самодовольством поведало в полиции, что «все славные ребята — ее любовники, а она сама — счастливейшая из женщин».
Судьба тех, кто родился «с серебряной ложкой во рту», — детей обеспеченных буржуа разительно отличалась от судьбы беспризорных «гаврошей». Трибун II Интернационала Жюль Гед, находясь в тюрьме, писал: «Все чаще и чаще обычные функции семьи выполняются за деньги. Наемные няньки и кормилицы баюкают ребенка, одевают, умывают, водят его гулять. Наемный гувернер сопровождает маленького господина повсюду, а преподаватели учат всему, чего чаще всего не знают ни мамаша, ни даже папаша. Буржуазия лишь сохраняет видимость семьи, которая на самом деле уже превратилась в денежную кассу». Но обладателям толстых кошельков было важно не только сохранить свои капиталы, но и приумножить их. Удачная женитьба вполне могла поправить дело. Брачный рынок щепетильностью не отличался: отпрыски разорившихся аристократов с радостью шли в зятья к фабрикантам мясных консервов, а вчерашние гимназистки «вылавливали» скрюченных подагрой миллионеров. Отставные генералы, поступившись прирожденным антисемитизмом, сватали сыновей за дочек еврейских банкиров. Сам Бисмарк по-солдафонски добродушно рекомендовал браки «между христианскими жеребцами и еврейскими кобылами».
На этом фоне образ жизни художественной интеллигенции являлся вопиющим вызовом официальной морали. С конца тридцатых годов XIX в. парижский район Монмартр стал превращаться в прибежище художников, студентов, восторженных романтиков, которые селились со своими очаровательными подружками в нетопленых мансардах и на пыльных чердаках. Отношения молодых людей отличались большой непринужденностью, но вместе с тем не походили на мимолетные связи. Беспечные натурщицы, швеи, модистки, которых парижане называли гризетками, хранили относительную верность своим избранникам. Они не рассчитывали на материальное вознаграждение, а, наоборот, своим личным трудом старались облегчить полуголодное существование романтического союза. Любовную идиллию Монпарнаса и Латинского квартала описывал еще Луи Мерсье в «Картинах Парижа», а ее классическое изображение дал Анри Мюрже в «Сценах из жизни богемы» (1851), которые послужили основой знаменитой оперы Д. Пуччини.
Однако суровая действительность «Нового Вавилона», как называли столицу Франции, мало подходила для безоблачных" идиллий. Гонимые нуждой вольные художники постепенно перебирались на другой берег Сены, на холм Монпарнас. В канун войны Монпарнас еще оставался довольно убогим захолустьем. Один из писателей утверждал, что в тогдашних ночлежках бедняки спали стоя, держась за веревку, чтобы не упасть, а на заре хозяин заведения будил всех сразу, отвязывая опору. Центром притяжения интернациональной богемы стали четыре кафе, расположенных поблизости пересечения бульваров Монпарнас и Распай: «Кафе дю Дом», «Куполь», «Ротонда» и «Клозери де Лила». Сюда приходили Пикассо, Ривера, Модильяни, Леже, Аполлинер и многие другие, тогда еще непризнанные гении, которые впоследствии составили славу мирового искусства. Именно здесь вызревали ростки бунтарской половой морали.
Параллельно существовал и другой, буржуазный Париж, отражающийся в витринах казино, кафешантанов и дорогих магазинов. Этот город сбивался с ног в поисках удовольствий, он искал их на Елисейских полях и Больших бульварах, в изысканных салонах мадам де Ноай и мадам Мульфельд, ломился на русский балет Дягилева, срывал Гран-при на ипподромах, прогуливался в шикарных экипажах по Булонскому лесу. Возбужденная публика ежевечерне заполняла танцевальные залы Табарин и Булье. Кафешантаны сотрясались от звуков канкана, декольтированные актрисы представляли «живые картины», усатые красавцы-борцы сводили с ума экзальтированных дам, стрекотали первые киноаппараты братьев Люмьер.
Туманный Альбион тоже старался не ударить в грязь лицом: сады «Аполло», «Уоксхолл», «Пантеон» прославились как центры развлечений. Балы начинались после полуночи и продолжались до 4—5 утра. Леди и джентльмены являлись на них в вечерних туалетах, предварительно просмотрев программу в варьете или отужинав в фешенебельном ресторане. Любое приключение не могло обойтись без легкого флирта, участия обольстительной доступной женщины. Оперные примадонны, звезды кордебалета, аристократки сомнительного происхождения образовывали особый, замкнутый мир продажных кокоток, который с легкой руки А. Дюма-сына назывался «демимонд» («полусвет»). Все дамы полусвета находились на содержании у богатых покровителей, бесконечно интриговали друг против друга, могли иногда для разнообразия искренне влюбиться и обожали оказываться в центре внимания падкой на сенсацию публики. Золотом или собственным телом они расплачивались с влиятельными журналистами, которые создавали им рекламу в столбцах светской хроники. По существу, полусвет и примыкавшие к нему международные авантюристки, разъезжавшие по Европе с большой помпой, представляли собой верхний, элитный слой заурядного «рынка любви».
Уничтожить проституцию оказалось не под силу и в век электричества. Итальянский психиатр и криминалист Ч. Ломброзо (1835—1909) выдвинул гипотезу «врожденной проститутки», согласно которой продажные женщины, так же, как и преступники, обладают особыми антропологическими стигматами, передающимися по наследству и определяющими их судьбу. Разделявший эти взгляды русский венеролог В. Тарновский утверждал: «Уничтожьте пролетариат, распустите армию, сделайте образование доступным в более короткий срок, дайте вступить в брак всем желающим, гарантируйте им спокойствие в семейной жизни и тогда... и тогда все-таки будет существовать проституция». При всей спорности исходных посылок опровергнуть эти утверждения не удалось до сих пор. Вождь немецкой социал-демократии А. Бебель (1840—1913) признавал: «Таким образом, для буржуазного общества проституция становится таким же необходимым инструментом, как и полиция, постоянное войско, церковь, предпринимательство».
Надежную статистику о размахе проституции в Европе привести просто невозможно. Цифры, фигурирующие в различного рода отчетах и исследованиях середины XIX — начала XX в., сильно отличаются и противоречат друг другу. Отчасти это объясняется объективными причинами: латентным, скрытым, характером проституции, сезонностью ее проявлений, текучестью «кадрового» состава. С другой стороны, исследователи, как правило, применяли несовершенные или несопоставимые методики подсчета. По различным оценкам, число проституток в Париже последней четверти XIX в. колебалось от 14 до 120 тысяч. В 1896 г. в Берлине, по утверждению П. Дюфура, их было 50 тысяч. Официальные источники указывают, что в Кельне предвоенных лет было 7 тысяч проституток, в Мюнхене — 8 тысяч. Вместе с тем такой солидный специалист, как А.
Молль, определял общее количество проституток в Германии в 1,5 млн. женщин. Викторианская Англия лицемерно отказывалась признать существование проституции. Однако тот же П. Дюфур насчитал в Лондоне «3335 тайных публичных домов, питейных заведений, павильонов и тому подобных притонов. В Ливерпуле насчитывалось в 1856 г. 770 публичных домов, в Манчестере — 263, в Эдинбурге — 203, в Глазго — 204». Вена, Варшава и Петербург32 ничем не уступали другим центрам. При всей противоречивости имеющихся данных общий вывод не вызывает сомнений: проституция при капитализме приобрела массовый организованный характер.
Предприимчивые дельцы вкладывали в проституцию средства точно так же, как в любые другие выгодные предприятия. Посреднические конторы повсюду выискивали новые кадры, устраивали девушек в качестве прислуги в подозрительные заведения, уговаривали или заставляли поехать за границу. Особенно много женщин было вывезено из Венгрии, Польши, Румынии, Галиции в Аргентину, Бразилию, на Ближний Восток. Нелегальная деятельность этих контор была хорошо известна полиции, но, получая огромные взятки, она и не собиралась «резать курицу, несущую золотые яйца». Перед войной Буэнос-Айрес превратился в крупнейший международный центр торговли живым товаром. Затраты никого не смущали, ибо с лихвой окупались; открытие комфортабельного борделя в Будапеште обошлось более чем в полмиллиона, а одно из заведений Берлина имело основной капитал в миллион марок и выплачивало вкладчикам по 20% дивидендов. Заведения процветали, от посетителей не было отбоя. С них, кроме установленной цены за «услуги», взимали плату за вход, спиртные напитки, чаевые персоналу. В Париже вход в более или менее приличное заведение стоил 20 франков плюс столько же за непременную бутылку вина. Профессор А. Флекснер, в течение ряда лет обследовавший по поручению американского Бюро социальной гигиены ситуацию в Европе, приводит данные одного из своих источников: «Ежегодные расходы по проституции в Германии достигают 300—500 миллионов марок. Этой цифре можно противопоставить бюджет прусского правительства на всю его воспитательную систему: на нужды университетов, школ первой и второй ступени, всех технических и ремесленных институтов истрачено было в 1909 году немного меньше 200 миллионов марок».