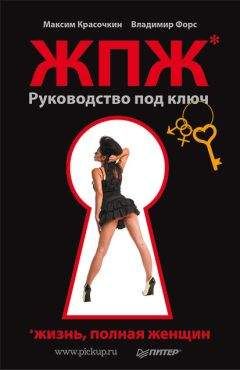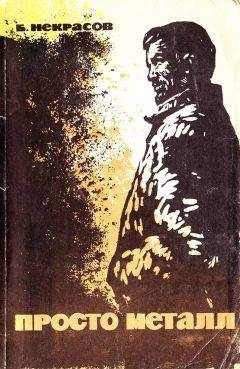— Ну, а где такого возьмешь?
Анатолий улыбается, и лицо его становится светлее.
— Имеется такой! Только вчера мне Дремин рассказывал, что вместе с Кузенко и Русевичем он у села Борщи воевал. Я спрашивал у него: может, однофамильцы? Нет, говорит, футболисты. Значит, Дремина к ним и послать — пусть подготовит их к бегству. Мы переправим их в партизанский отряд на Остер. Как переправим? А просто: спрячем их в трюме баржи.
— Дело говоришь, Толик, — соглашается дядя Семен. — План, можно сказать, молниеносный, однако совсем не плохой. Где сейчас находится Дремин?
— На пристани, как всегда, у грузчиков. Может, очередного полицая высматривает.
Взгляд Андрея становится веселей, плечи его слегка дрожат от сдержанного смеха.
— Это у него здорово получилось. Говорят, после того случая полицаи совсем перестали купаться в Днепре!
Дядя Семен порывисто вздыхает и говорит с нотками зависти в голосе:
— Плавает, паренек, изрядно! Легкие у него, как видно, натренированные. Это сколько же времени нужно, чтобы живого полицая к свае на две привязать?! — Лицо его сразу же становится серьезным:
— Дремин для этого дела подойдет. Но когда он должен привести к нам футболистов? Нужно где-то их спрятать и осторожно переправить на баржу. Опять-таки нам неизвестно, когда отправится баржа и будут ли на ней немцы.
— Будут или не будут — спрячем, — твердо решает Андрей. — Все равно, солдаты появятся перед самым отправлением баржи. Но команда спортсменов — это не один человек. У них разные настроения могут быть… Так или иначе, Дремину следует идти на хлебозавод. Пускай он там осмотрится и скажет: вот вам, ребята, партизанская рука — айда на Десну, кто желает!
Некоторое время в горнице стояла тишина, Андрей медленно обводит взглядом товарищей.
— Добро?
Ему отвечают негромко:
— Добро…
Анатолий надевает кепку и направляется к двери.
— Обязательно осмотреться! — говорит ему вслед Андрей. — Пускай не действует сгоряча. Так и передай Дремину. А мы ему просигналим…
* * *
…Когда футболисты вошли в раздевалку, Русевич подошел к центральному нападающему и спросил его напрямик:
— Скажи мне, ты нарочно медлил в начале игры? Правду скажи, ты испугался?
Корж смутился, товарищи обступили его тесным кругом.
— Нет, — выговорил он, заикаясь, — я присматривался к их игре…
— Но пока ты присматривался, они-то играли! Разве нельзя играть и присматриваться одновременно?
— Мне самому трудно объяснить мое состояние, — сказал Корж.
— Позволь, я тебе объясню, — усмехнулся Николай. — Ты разрешаешь?
Корж смутился:
— Не понимаю. Чего ты пристаешь!
— Знаешь, — сдерживаясь, негромко проговорил Николай, — можно подумать, что мы чужие люди. Но ведь мы же свои! Не первый день знакомы друг с другом… И знаем причину твоих переживаний. Это — Неля, как ее… Корочкина. Это она тебя уговаривала: проиграйте… А сегодня — ты видел? — не стесняясь народа, потеряв стыд, она поднесла «Люфтваффе» цветы…
Корж выпрямился и упрямо тряхнул головой:
— Букет у нее перехватили! Она хотела нам его преподнести.
Кто-то тихонько свистнул, а Тюрин захохотал.
— Не валяй дурака, — сказал Русевич.
Корж побагровел; губы его дрожали, нервно дергалась бровь.
— Нелю не трогайте! Я уверен, что она не виновата. Я ее знаю не первый день. Возможно, она это сделала под дулом пистолета. Она и сама ненавидит эту накипь. Она говорила мне… Нет, вы не знаете ее!
Неожиданно обозлившись, он затряс кулаками:
— И чего вы пристали? Ведь я же забил гол! Или это, по-вашему, пустяк? Смотрите на меня, как волки…
Разговор неожиданно прервал открывший дверь помощник судьи. Он сказал с порога:
— Просят господина Коржа.
Корж отозвался недовольно:
— Кто там еще?
— Вас просит дама. Знакомая…
— Обработка продолжается! — угрюмо проворчал Свиридов. — Это, конечно, она…
Корж поспешно вышел из раздевалки. Действительно, у входа его ждала Неля.
— Нам нужно поговорить, — сказала она почти строго. — Отойдем в сторонку…
— О чем говорить во время игры? — спросил он недовольно. — Товарищи и без того смеются.
Неля посмотрела на него удивленно; она хорошо знала, как действует на него ее улыбка, и голос, и взгляд.
— Мой Коржик! Да ты ли это? Ну! Только пять минут.
Он неохотно подчинился.
— Послушай, Коржик, — заговорила она торопливым шопотом, когда они отошли от двери. — Ты заставляешь меня волноваться. Сначала я думала: какой молодец! Ты начал игру так умно и тонко… Понимаешь, было такое впечатление, словно ты всей игрой руководишь, ну точно, как дирижер оркестром, а сам остаешься корректным, больше, я бы сказала, — великодушным.
— Это неправда, — сказал он тихо. — Вначале я плохо играл.
Она погладила его руку, доверчиво прикоснулась плечом к его плечу.
— Но тебе аплодировали! Я видела это сама. Разве ты не слышал, как повторяли твою фамилию?
— Аплодировали, когда я забил гол.
Она взглянула на него с упреком:
— Ты допустил ошибку. Подумай, что важнее: минутная радость на поле или…
Она запнулась и огорченно сдвинула брови. Коржу показалось, она была готова заплакать.
— Или? — чуть слышно спросил он.
— Или твоя дальнейшая судьба?
Корж нетерпеливо оглянулся на раздевалку.
— Ты хотела сказать что-то важное, Неля.
Она, видимо, поняла, что истекают последние секунды их встречи. Решительно и прямо она посмотрела ему в глаза:
— Разве это не важно… твоя судьба? Зачем ты заставляешь меня страдать?! Сначала ты присылал записки, ревновал к этому шефу… Даже грозил! Наверное, ты хотел бы, чтобы я стояла на Крещатике с протянутой рукой. Потом, наконец-то, понял… Жизнь требует ловкости. Ты сам это говорил. И еще ты сказал мне — помнишь? — главное — уцелеть… Почему же теперь ты рискуешь? Кто для тебя дороже: приятели или я? А я — то, глупая, была уверена в тебе…
— Ты хочешь, чтобы я покинул поле?
Она схватила его руку:
— Нет-нет… Просто — не накликай беды. Оставайся в игре незаметным… Тебе ведь нужно не больше других! Пусть, другие бьют по воротам, если они такие смельчаки.
— Понимаешь ли, Неля, — проговорил он с усилием, не отнимая руку от ее локтя, — это будет похоже на предательство. Команда мне не простит. Ты в стороне, а мне-то жить с ними еще придется. Они и сейчас уже уверены, что я веду двойную игру…
Резко отдернув руку, она отступила на шаг. Как быстро изменилось выражение этих только что ласковых глаз! Теперь они смотрели холодно и зло:
— Понятно… Они для тебя дороже.
Она хотела уйти, но Корж удержал ее за локоть:
— Скажи, Неля, — спросил он, стараясь казаться спокойным. — Этот букет… Тебя заставил шеф? Ведь правда? Или ты хотела нам подарить цветы?
— Ну что ты, глупышка! — сказала она, смеясь. — Кто же мог меня заставить? Я знаю, в Киеве мне все равно не жить, и, значит, нечего и терять здесь.
Резким движением она вдруг приблизилась к нему, так, что он ощутил губами ее горячее дыхание.
— Ты знаешь, что означает этот букет? Пропуск за границу! Да, пропуск! Мне обещали… Я еще увижу Париж и Берлин! Я думала и о тебе, но ты, оказывается, струсил… Подумай, еще не поздно, Коржик, игра еще впереди…
Корж ничего не ответил. Быстрым шагом он возвратился в раздевалку. Пожалуй, в эти минуты он вряд ли смог бы ответить и самому себе: чего же он больше боялся — презрения товарищей или мести гестапо? Мысль о возможной мести снова показалась ему невероятной и дикой. А тут еще Русевич, едва лишь Корж вошел в раздевалку, будто понимая его смятение, громко сказал:
— Между прочим, трусов они тоже не жалуют. Я слышал, эсэсовцы казнят их без пощады, конечно если трус использован и больше не понадобится им.
У штурмбаннфюрера пошаливают нервы
После первого тайма, когда спортсмены покидали поле и зрители увидели, что в киевской команде несколько человек изувечено, мало кто ожидал, чтобы вторая половина игры началась такой бурной атакой киевлян.
Солнце уже скрылось за зубчатой стеной деревьев, и на стадион сошла легкая, освежающая прохлада. Переметнувшись через зеленое взгорье, над полем повеял ветерок. Стоя в воротах, Русевич с удовольствием подставлял ему воспаленное лицо. Чувство спокойной уверенности овладевало в эти минуты Николаем: с первой передачи Кузенко, с первого удара Тюрина он распознал тот знакомый стиль игры, который при очень высоком темпе и безошибочной пасовке уже не раз приводил команду к победе.
Возможно, что на трибунах командования сразу же была замечена резкая перемена в игре. Диктор не случайно дважды объявил, что всякое буйное проявление чувств, которое допускают зрители, немецкое командование считает проявлением дикости и потому категорически запрещает всякие выкрики.
На каждой скамье каждого сектора теперь сидели военные или полицейские, зорко наблюдая за поведением киевлян. Впрочем, и эта мера, предпринятая гестаповцами, не дала результатов: тысячи людей одновременно не арестуешь, не выгонишь со стадиона — было бы проще прервать матч.