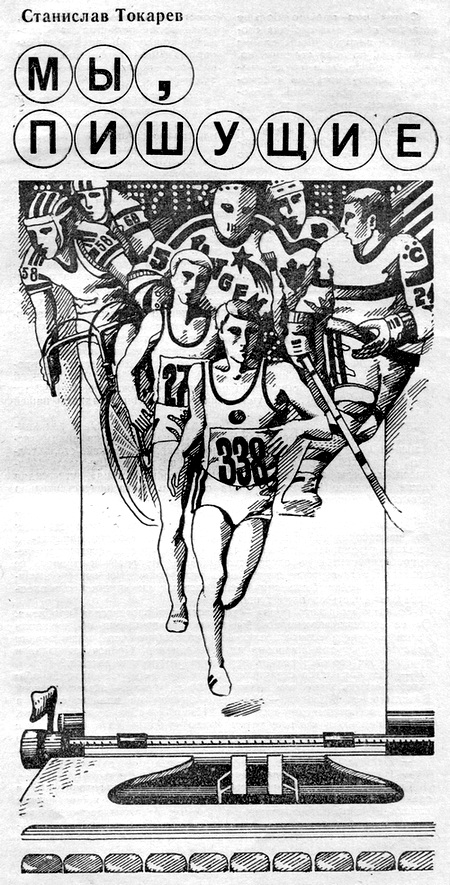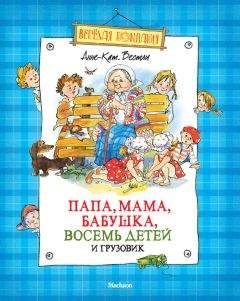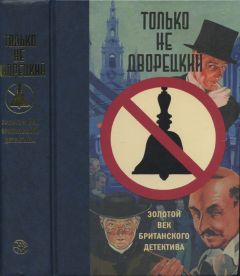— всех напугает». И накинет потрепанную шубейку, обвяжется крест- накрест домотканым платком, лыжи на плечо — пошла себе, в толпе неприметная.
Воспоминания мои смешиваются, одна зима заслоняет другую: когда что было, на какой Спартакиаде?
Когда выиграл Евгений Рудковский пятьдесят километров? Я тщательно записал, на каком отрезке, по хронометражу, сбавлял или прибавлял скорость, а потом, у себя в номере, бреясь, с удовольствием разглядывая в зеркальце лицо-яблочко, Женя эти цифры расшифровывал:
— Постой-ка... Там я остановился, перемазался... Там? Сейчас вспомню. Ага, мне подкричали, что шестым только иду, я подработал, ускорился... А тут я, брат, заскучал, в глазах темно, прислонился к елке, а на ней вот такая воронища сидит и на меня снег стряхивает. Всего обсыпала. Я на нее осерчал, а еще пуще на себя, что, мол, совсем капнул. Поднатужился — па-ашел.
Мы спустились в холл — Женя собрался в кино. В холле на диване сидел известный лыжник Губин.
— Чтой-то, — говорит, — Жень, у меня спину разломило, встать не могу, по лестнице подняться.
— А мне вот легко, — безмятежно улыбнулся Рудковский.
— Эх, Женя, — вздохнул Губин, — когда выиграешь, оно всегда легко.
А вот на первой, именно на первой Спартакиаде Филатов мне предложил: «Знаете, попробуйте написать сегодня не о первом, а о последнем — может интересно получиться». Самого последнего я не нашел — взял просто одного из последнего десятка. Он сидел в палатке, утопив в опилках натруженные ноги, молодой и белоголовый. Сибиряк, из села, с детства на лыжах — только на валенках: «А техника, понимаете, не та, какая на валенках техника? Долго потом переучивался, и сейчас еще корявый. Сам учился, братишек, сестренок учил, я старший в семье-то. Ну, а сейчас в городе, на заводе фрезеровщиком. Вот, бегаю. Не... чтоб высоко выбиваться, про это не думаю, даже не предполагаю, просто без лыж не могу, такое дело».
Мой приятель, Александр Привалов, один из первых советских биатлонистов и ведущих биатлонных тренеров страны, говаривал: «Не надо думать о победе — надо идти и думать о том, что идешь, стрелять и думать о том, что стреляешь, а победа, она во всем разберется сама».
С тем белоголовым победа разобралась. Его звали Иван Утробин, он стал одним из лучших лыжников страны. Сейчас живет под Москвой, тренирует, а на трассе, проложенной им неподалеку от дома, на «Ивановой лыжне», ежегодно состязаются молодые. Такие, каким был он сам в пятьдесят восьмом.
На одной из Спартакиад все дистанции выиграл свердловчанин Андрей Семенов, то был самый яркий его сезон, казалось, запас его сил неисчерпаем. И вот сидит он в комнатке на базе, голый по пояс, сухой — мышцы да жилы — и ест шоколад, откусывая, как от краюхи: мужчина — сейчас это видно — в годах, мужик, накосившийся или напахавшийся. Жена, припав на корточки, трет ему, массирует набухшие икры, рядом примостился сынишка — косенький, в очках, — посасывает шоколадный ломтик, с любовью и жалостью смотрит на отца. Андрей Семенов жует и подремывает. Тряхнул головой, глянул на меня:
— Кончился мой сезон.
Что он хотел сказать? Что зиму отбегал, а другая зима еще вдалеке, и теперь он отдохнет? А может, — да скорее всего, — что такой зимы больше не будет.
Я, действительно, не слышал с тех пор об Андрее Семенове.
...Сведет тебя так с человеком, потом разведет — навсегда. Или — кто-то незнакомый, немолодой вдруг скажет: «А помните, вы обо мне писали?»
Что остается?
Вот он в памяти, мужик, что жует шоколад, как краюху, и засыпает, жуя, от великого утомления. И благоговеешь перед его спортивным трудом.
Память о спартакиадах неразрывно связана для меня с обликом моего покойного друга Михаила Марина, чья фамилия много лет украшала газетные и журнальные полосы, — вот был репортер, что называется, божьей милостью.
Человек был лучезарный. Брызжущий энергией, радостью жизни, раскаленный ею.
Трудно уж упомнить, при каких обстоятельствах он, горьковский журналист, в недавнем прошлом преподаватель политэкономии, был приглашен в нашу бригаду на чемпионат мира по конькам в Москве, в 1962 году. Должно быть, о его репортерских способностях мы были уже наслышаны.
Чемпионат освещался лихо. На Большой арене в Лужниках, где шли забеги, нам отвели две комнатки, в одной стучали машинистки, возглавляемые неизменной «Нурсимой», в другой начальство читало отпечатанное, и сразу в типографию, в набор. Все в номер, без опоздания, семь полос из тогдашних восьми, и все наутро получал читатель, а ведь забеги шли вечерами, допоздна.
Миша брал интервью. Мог прорваться к любому, любого разговорить — бегуна, не отдышавшегося после финиша, тренера, надсадившего глотку, выкрикивая секунды графика на тренерской «бирже» у льда, важного президента Международной федерации.
Как он это делал? Как прорезал цепь контролеров, не очень жалующих нашего брата? Брал ли обаянием, или тем целеустремленным, строгим, занятым видом, при котором нет никакой возможности, права морального нет удержать неудержимого, или просто растворялся в воздухе? Непостижимо.
И вот летит уже к машинке, вот диктует, мелким твердым шажком меряя комнату, выпятив железный животик, решительный, властный, больше, чем всегда, похожий на Наполеона клювастым профилем, прядкой на выпуклом лбу. Миг, и нет его, воспарил, чтобы камнем броситься на очередную цель.
Потом он тотчас отправился с нами на Всесоюзную зимнюю спартакиаду. Кроме иных дел, мы нагрузили его, двужильного, ежедневным комментарием хода командной борьбы. Он врывался среди ночи ко мне в номер и, обуреваемый энтузиазмом кричал: «Знаешь, что случилось? Нет, ты не знаешь? Туркмения обошла Киргизию!» К себе в комнату, где господствовал хаос, он притаскивал из главного штаба — думаю, нелегально — простыни таблиц командного зачета, заваливал ими пол, садился на пол, колдовал, вскакивал, бежал к столу и набрасывал свой комментарий крупным быстрым почерком.
Его газетный взлет начинался, он так этого ждал, что боялся поверить, и время от времени грустно говорил мне, что плохо пишет, не умеет писать, какой из него, к черту, журналист — не вернуться ли к родной политэкономии? А мы, бригада, возвратясь в Москву, подали руководству скрепленную всеми нашими подписями просьбу тотчас, не мешкая, зачислить Михаила Меллера (Марина) к нам в штат.
Миша спускался по лестнице. Шел печальный — в гостинице ждал его собранный чемодан, праздник кончился, а будни неизвестно что ему сулили. Навстречу, только что после заседания, поднимался один из членов редколлегии.
— Старик, я тебя поздравляю.
— Да с чем? — буркнул Миша.