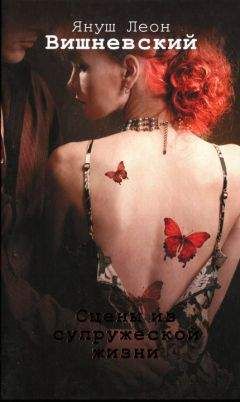La culotte de Jean Anouilh (1976)
Перевод с французского и адаптация Алексей Коновалов-Луваль ©
Фарс
Действующие лица:
Леон дё Сэн-Пе, академик (50 лет)
Лебеллюк, его друг (адвокат)
Тото, его сын (20 лет)
Ля Фисель[1], его прислуга
Ада, его жена (40–45 лет)
Мари-Кристина, его дочь (10 лет)
Бабушка
Флипот, его прислуга (жена Ля Фиселя)
Новая горничная
Председательша свободных женщин XVI[2] округа Парижа
Вторая заседательша
Третья заседательша
Действие будет иметь место во Франции в очень скором будущем.
Мрачные декорации составлены из поломанных предметов и рваных тряпок. Персонажи тоже одеты в тряпьё. Как хозяева, так и прислуга. В середине сцены установлен пыточный столб, к нему привязан мужчина лет пятидесяти, одетый в выцветший мундир члена Французской Академии. Это Леон.
Когда занавес поднимается, Леон спит.
Ведя за руку десятилетнюю внучку, через сцену идёт Бабушка. Все персонажи, включая девочку, носят приставные носы. Кто бы они ни были, они, по существу, клоуны.
Бабушка. Шевелись, Мари-Кристина, иначе в школу опоздаешь, директорша будет ругаться.
Мари-Кристина. Почему папа ещё привязан?
Бабушка. Это потому, что он сделал горничной ребёночка.
Мари-Кристина. И его больше не отвяжут?
Бабушка. Отвяжут. Время придёт статью писать, тогда и отвяжут. (Они выходят).
Со шваброй, тряпками и с пылесосом входят Флипот и Ля Фисель, прислуга. Они тоже одеты в балахоны, но их можно узнать по фартукам, которые на них повязаны. Ля Фисель ещё щеголяет в полосатом жилете комнатного лакея.
Флипот. Окаянный, каков ты есть! Пятерых-то наделал мне, ну! Будешь шляться по забегаловкам и анисовую свою насасывать тут!
Ля Фисель (уворачиваясь от ударов). Неправда! Только красненького рюмочку опрокинул с шофером! Мороз стоит, а он два часа ждёт по тротуару в минус пять на градуснике! Не мог же я бросить бедного негра на произвол судеб!
Флипот. Расист! Пьяница! Я тобой займусь, пройдусь по тебе, фаллократ проклятый, палкой! Шевелись, пошевеливайся! Напылесосишь всё, уберёшь дерьмо, не вздумай только беседовать со стариком. Мадам строго-настрого!
Она выходит. Ля Фисель начинает пылесосить. Наконец, вой пылесоса будит академика.
Леон (просыпаясь и зевая). Утро уже?
Ля Фисель. Не имея права вступать с вами, м'сье, в разговор…
Леон. Я не прошу тебя вступать с нами, скажи, утро уже или как?
Ля Фисель. Утро, м'сье. Но я ничего не говорил. Вы сами догадались.
Леон (после паузы, заискивающе). Думаешь, кофе принесут?
Ля Фисель. Возможно. Если других наказаний не последует, когда руку отвяжут, тогда, может быть. Я говорю, но, права разговаривать с вами не имея… так что уж вы, пожалуйста, сделайте так, будто я с вами не говорил.
Леон. Если жена твоя пойдёт, попроси, чтоб отвязала и левую… У меня затекло всё, ей-богу.
Ля Фисель. Как вам будет угодно, м'сье, но это рискованно. Она об хребет мне уже три швабры переломила. Выходит, что мы поголовно сластолюбивые поросята, расисты и фаллократы проклятые, так что рано или поздно приходится отвечать! Признайтесь, м'сье, вы ведь тоже таво… тоже далеко заехали, сделали ей младенца!
Леон. Но она такая была… нежная. Со мной уже долго так ласково никто не говорил. Она была… словно мамуля моя, ей-богу. Я о маме мечтаю уже пятьдесят лет.
Ля Фисель (рассудительно. Причина ли это, м'сье, чтобы делать прислугу матерью?
Леон (обеспокоенный). Ля Фисель, тебя воспитали до всеобщего обязательного образования! Ты ничего не слышал о психоанализе. Ты не понимаешь. Ты даже не знаешь, что такое влечение).
Ля Фисель. Но можно ли думать, м'сье, я тоже… во времена, когда это было позволено, я тоже шпикачил, как всякий из нас! Теперь же, молчок! Теперь такое обходится слишком!
Леон (мечтательно). И кожа на ляжках у неё тоже такая нежная… а у жены моей шершавая, как и душа.
Ля Фисель. Об этом давно нужно было подумать, м'сье, когда вы женились!
Леон. Тогда и у ней ляжки были, что надо. И душа, казалось, тоже была.
Ля Фисель. Всё, сударь, стирается, портится. (Он обнаруживает, что аппарат не работает.) Пылесос тоже дуба дал. Но если скажете, что я с вами вступал, м'сье, я тоже скажу, что вы лжёте. А поверят мне. Потому что я рабочий класс. А в эпоху великих перемен рабочий класс всегда прав.
Леон. С тех пор, как меня привязали, я больше ни о чём не имею представления. Революция совершилась, идёт?
Ля Фисель. Идёт. Всё идёт, как надо. А, по мне, как идёт, так и надо.
Леон. А газета? «Фигаро» ещё существует?
Ля Фисель. Ну, а как же? Вы же пишите туда каждый день. Газета, как и все остальные, она приспосабливается.
Леон. А тебе-то от революции, что?
Ля Фисель. Не знаю. Может, он ней говорить перестанут! Уже кое-что. Только, молчок! Скажете, что я говорил, я расскажу про ваши фаллократические выпады в Комитет Освобождённых Женщин Парижа.
Леон (огорчённо). И ты, мой старый приятель, это сделаешь?
Ля Фисель. Сделаю, что угодно, лишь бы ятра спасти. Позавчера оскопили ещё колбасника с улицы Успения Пресвятой Богоматери. Тот пошутил с клиенткой, подпустил старую, как стены Парижа шутку про колбасу. Женщина пожаловалась в Комитет, и вот тебе на… чик-чирик!
Леон (ностальгически. Много ль ты свои-то в дело пускаешь?
Ля Фисель. Если контрреволюция наступит раньше, чем я остарею окончательно, эти подвески ещё смогут мне послужить. (Он останавливается в ужасе.) Если вы скажете, что я сказал, я скажу, что это вы мне сказали! А поверят мне. Народ никогда не врёт. В эпоху великих перемен.
Он уходит. Оставшись один, академик шепчет, пытаясь размять затёкшие члены.
Леон. Двадцать два! Подумать только, как долго я колебался, прежде чем войти во Французскую Академию! В конце концов, мундир сыграл решительную роль. Только у нас он шит золотом! Но спать в нём, увы, неудобно… царапает, а потом чешется всё. Хоть бы оставили что ли шпагу, я б защитился? Но против семьи разве попрёшь? И так угрязнений совести хоть отбавляй. Поначалу в таком количестве их не наблюдалось. Но, как начались сеансы самокритики, эти самые угрызения раздобрели, как грызуны. А теперь уж вообще они, как шары в масле, жирные такие, мордатые… Странно, но я к ним привык. Они мне теперь даже нравятся. (Скромно, но с аппетитом.) Особенно одно угрызение…
В потрёпанном шёлковом платье входит Ада (фальшивый жемчуг; из мятой шляпки торчат перья). Впечатление, что женщина нарядилась на бал нищих.
Ада (заканчивая надевать дырявые перчатки). Как сегодня себя чувствуют твои угрызения совести?
Леон. Понятия не имею. Всё слишком затекло, муравьи в членах бегают. Ночь была длинной.
Ада. Не хнычь в жилетку. Ты знаешь, что пользы в этом никакой. Пятнадцать дней столба ты заслужил. Помнишь, за что?
Леон (покорно). Помню.
Ада. То-то! Когда вернусь, перескажешь в деталях. После парикмахерской я проведу с тобой сеанс самокритики. А сейчас я убегаю. Я уже опаздываю, ты ведь знаешь, как Сандро обидчив!
Леон (вздыхает). Сандре повезло!
Ада (останавливается в раздражении). Что?
Леон. Твоему парикмахеру… ему повезло, он может обижаться!
Ада. Сандро — гениален, он возвращает женщинам красоту. К тому же, он гомосексуалист. Не будешь же ты себя сравнивать…
Леон (жалобно). Нет, разумеется. Может, меня отвяжут? У меня всё затекло, муравьи, говорю, гложут и бегают…
Ада (выходя). Жди. Скоро тебе правую руку отвяжут, и ты сможешь написать статью в «Фигаро»).
Леон (смиренно). А левую?
Ада (энергично оборачиваясь). Размечтался, дружок! Забыл, что ты ручонками своими развязными наделал, поросёнок сластолюбивый!