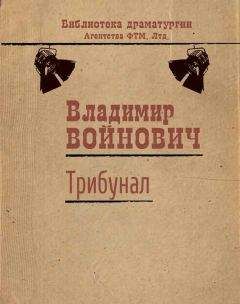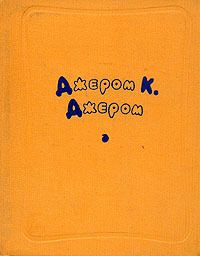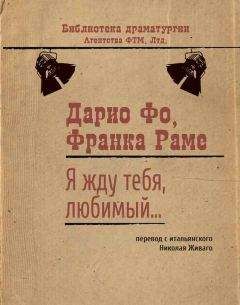Ознакомительная версия.
Лариса. По-моему, ясно, что. Если у вас есть хоть капля гражданской совести и немного гражданского мужества, бросьте эту вашу гитару, выйдите на площадь, скажите, что пока происходят такие безобразия, как это судилище над Подоплековым, вы не можете писать стихи, не можете петь ваши песни. Вспомните золотые слова: поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан.
Бард. Хорошие слова. Но, видите ли, это касается тех, кто может не быть поэтом, а я поэт.
Лариса. Но как поэт, вы же можете делать что-то, чтобы мир стал хоть чуть-чуть получше.
Бард. А я именно это и делаю, но своим способом. Выйти на площадь и погибнуть может каждый, но кто же воспоет подвиг погибших? Нет, дорогая, у меня другая задача. Вы слышали такие слова:
Господа, если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой.
Лариса (почтительно). Это ваши стихи?
Бард. Нет, это Беранже. А мои вот эти. (Подбирая мотив, напевает)
Я был недавно в недальнем Где-то,
Там люди тесно живут, как в гетто.
Суровый климат — зима без лета…
И не хватает тепла и света.
Неотличимы там день от ночи,
Там люди бродят во тьме на ощупь.
И хоть друг друга они не видят,
Друг друга крепко все ненавидят.
Все злобой, словно мочой, пропахли
И сами в злобе свой зачахли,
Как куст иссохший чертополоха.
Не существуют, а прозябают.
И только радость у них бывает,
Когда соседу бывает плохо.
Сломал ли ногу, свернул ли шею,
Или украли в метро бумажник,
Иль терпит в чем-то ином лишенья,
Его соседям — и свет, и праздник.
Так жизнь проходит во тьме и злобе.
Развлечься нечем душе и телу.
Но если кто-то кого угробил,
Тогда, конечно, другое дело.
Ну, как вам?
Лариса. Здорово. Только я бы на вашем месте все-таки уточнила. Вот вы пишете: «в недальнем Где-то». А зачем это где-то? Вы назовите конкретно, где именно. Или это вот украли бумажник. У кого, кто украл? Кто свернул шею? Кто кого угробил? Если бы вы заодно затронули проблему нелегальной миграции. Что, скажем, какой-то кавказец зарезал нашего русского парня. Тогда бы и правоохранительным органам было легче работать, и общественность осознала бы остроту ситуации. А вы все где-то кто-то кого-то чего-то…
Бард. Да, вы правы. Но я же не гражданский поэт, а лирический. Я пою о том же самом, но создаю образы обобщенные, метафорические. (Поет).
Течет река, вода мелка и мелки наши страсти.
Мы ради лишнего куска рвем ближнего на части.
Друг друга губим ни за что и ни за что терзаем,
И перед тем, как впасть в ничто, в ничтожество впадаем.
Лариса. А дальше что?
Бард. А дальше у меня не получается. Никак не найду концовку.
Лариса. А вот потому и не находите, что не конкретно. А вот написали бы, что этот сволочь судья Мешалкин впал в ничтожество, так этим можно было бы и кончить.
Бард. Вы не можете понять, что меня этот ваш конкретный Мешалкин не интересует. Этих Мешалкиных знаете сколько. Про каждого отдельного не напишешь. А Мешалкин как обобщенный образ, как типическая фигура нашего времени, это совсем другое. (Уходит)
Появляется Священник в рясе.
Священник (останавливается, читает). «Жертва Мешалкина!» А что этот Мешалкин сделал? Изнасиловал, что ли?
Лариса. Хуже.
Священник. Убил кого-нибудь?
Лариса. Хуже.
Священник. Да что ж может быть хуже?
Лариса. Он во мне веру в справедливость убил. За это его самого убить мало.
Священник. А себе какую кару выберешь? В чем сама-то грешна?
Лариса (удивленно). Я? Я ни в чем.
Священник. Святая, что ли?
Лариса. Да нет, обыкновенная.
Священник. Обыкновенная, значит грешная. А грешный человек разве может другого грешного судить?
Лариса. Ну грех-то греху рознь. Я всего один раз мужу изменила. Да и то с его же начальником. Чтоб ему же продвижение по службе сделать. Это, согласна, грех, но во благо. А тут человек пришел в театр, а его хватают, волокут на сцену и судят ни за что ни про что. Можете в это поверить?
Священник. Отчего ж не поверить? У нас такие порядки, кого хошь закатают.
Лариса. Но церковь, батюшка, должна же с этими порядками как-то бороться. Может, вы за мужа моего заступитесь?
Священник. Ну, вот еще, зачем же я буду заступаться?
Лариса. Ну как же, человека ни за что посадили, а вы связь с Богом имеете.
Священник. Да, имею. Но у нас связь-то, сама понимаешь, не такая как с земным начальством. Не телефон, не скайп, а мистика.
Лариса. Ну хорошо. Но по мистической связи вы же можете Ему сообщить, что вот, мол, на земле безобразия происходят. Человека, отца двух детей ни за что ни про что…
Священник. Глупости говоришь. Зачем же я буду Ему сообщать, Он сам, что ли не видит? Видит Он все, отлично видит.
Лариса. А если видит, почему ж допускает такое? Почему этих вот прокурора, судью почему не накажет?
Священник. Накажет, накажет, за Ним, как говорится, не заржавеет. Не здесь, так там накажет. Адскими муками накажет. Но прежде того тебе испытание посылает.
Лариса. Да не Он же посылает. А эти вот сволочи, прокурор, судья.
Священник. Так через сволочей и посылает. Через хороших людей такое не пошлешь, а через этих как раз. Твоему мужу испытание тюрьмой, чтоб посмотреть, выдюжит или нет, а тебя на верность разлукой испытывает. Если он выдюжит, героем среди людей станет. А ты, если дождешься и не оступишься, Господь грех твой с начальником спишет, а тебя праведницей сделает, в рай попадешь. А рай — это, как бы тебе сказать, рай — это вечное блаженство, вечный, чтоб тебе понятно было на твоем языке, оргазм.
Священник идет дальше. Лариса бежит за ним.
Лариса. Батюшка, милый, этот оргазм, он когда еще будет, а сейчас-то за что же нам эти муки? Ну попросите Господа за нас, ведь Он всемилостив, Он услышит.
Священник (строго). Он услышит. Он всемилостив. Но милость Его особая и проявляется по-разному. Посылает Он нам радости — это милость. Посылает страдания — это милость. Наш Бог — это сила, и неверно представлять Его милым таким покемончиком, которого можно так вот на пустом месте разжалобить.
Лариса. Но что же мне делать?
Священник. Молиться и радоваться. Страдания возвышают и приближают человека к Богу. Если мужа посадили, дом сгорел, болезнь обнаружилась — молись и радуйся. (Уходит.)
Лариса стоит в пикете. Мимо идет Депутат.
Лариса. Здравствуйте!
Депутат. Угу. (Идет дальше.)
Лариса (семенит рядом). А я вас узнала.
Депутат. Да меня все узнают. Я ж человек публичный. В Думе заседаю, по телевидению выступаю.
Лариса. Вот вы мне как раз и нужны.
Депутат. Что значит — я вам нужен? Вы представляете себе, кто я и кто вы?
Лариса. Да, конечно, представляю. Я простая русская женщина, ничем не примечательная, серая мышка, офисный планктон, сетевой хомячок, а вы крупный государственный деятель, народный избранник, имеете, как я слышала, большие научные достижения.
Депутат (смягчился). Да, кандидат наук и скоро стану доктором. И чем могу помочь?
Лариса. Да тут у меня, вы, может быть, видели, мужа арестовали.
Депутат. Мужа арестовали? И за что же?
Лариса. Да в том-то и дело, что совсем ни за что.
Депутат. Ну это все говорят, ни за что. Но что-то ж он сделал.
Лариса. Да вот именно, что ничего не сделал. Просто пришел в театр.
Депутат. Что значит — просто пришел? Зачем пришел? По чьему заданию? Госдепа?
Лариса. Чего-чего?
Депутат. Что «чего-чего»? У нас без одобрения Госдепа никто ничего не делает. Вся страна находится под американской оккупацией. В правительстве сидят американские ставленники. В одной только Москве находятся девятьсот тысяч хорошо подготовленных американских бойцов. Сегодня они ведут себя как обыкновенные граждане. Работают, ездят в метро, ходят в кино, в музеи, в театры, и их ничем не отличишь от добропорядочных граждан. Но завтра поступит сигнал из Вашингтона, и они все как один выйдут на улицы уже в американской военной форме и с оружием, и нам ничего не останется, как немедленно сдаться. А впрочем, мы уже все и сдались. Все процессы у нас ведутся американцами. Они всем указывают, какую роль кто исполняет. Что должны говорить судьи, что должны отвечать подсудимые, как должны реагировать зрители, вот эти вот. (Показывает на зал.) Они все американские агенты. Они смотрят и реагируют на все по указанию Госдепа. Когда надо молчать, когда смеяться, когда аплодировать. И все это они делают за хорошие денежки.
Ознакомительная версия.