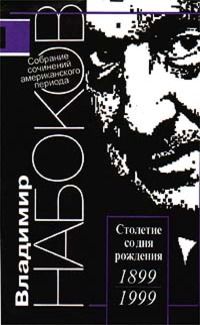Набоков Владимир
Сцены из жизни двойного чудища
Владимир Набоков
СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ ДВОЙНОГО ЧУДИЩА
Несколько лет назад доктор Фрике задал мне и Ллойду вопрос, на который теперь я попытаюсь ответить. Погладив с мечтательной улыбкой ублаготворенного ученого соединяющую нас толстую хрящевую связку, - omphalopagus diaphragmo-xiphodidymus, как выразился в схожем случае Панкоуст, - он осведомился, можем ли мы припомнить самый первый случай, когда кто-то из нас или оба мы осознали необычайность наших обстоятельств и нашей судьбы. Все, что вспомнилось Ллойду, - это как наш дедушка Ибрагим (или Аким, или Ахем - противная груда умерших звуков на наш нынешний слух!), бывало, гладил то, что погладил доктор, и говорил - "золотой мост". Я промолчал.
Наше детство прошло в доме дедушки невдалеке от Караца, на вершине тучного холма, над Черным морем. Младшую из его дочерей, розу Востока, жемчужину седого Ахема (коли так, старый прохвост мог бы приглядывать за ней получше), изнасиловал в придорожном саду наш безымянный родитель, и едва породив нас, она умерла, - полагаю, единственно от ужаса и печали. Одна линия сплетен указывала на венгерского коробейника, другая отдавала предпочтение немецкому коллекционеру птиц либо кому-то из членов его экспедиции - скорее всего, таксидермисту. Сумрачные тетки в тяжелых бусах, в просторных платьях, пропахших бараниной и розовым маслом, с омерзительным рвением удовлетворяли нужды нашего чудовищного младенчества.
В окрестных деревнях скоро проведали о поразительной новости и принялись засылать к нам на двор разного рода любо пытствующих чужаков. В праздничные дни они виднелись карабкающимися по склонам нашей горы, будто пилигриммы с цветной картинки. Там был пастух ростом в семь футов и лысый человечек в очках, и солдаты, и растущие тени кипарисов. Приходили и дети - во всякое время, - и наши ревнивые няньки пинками гнали их прочь; но почти ежедневно какой-нибудь черноглазый, стриженный юнец в выцветших до голубизны штанах с темными заплатами исхитрялся пролезть сквозь кизил, жимолость и сплетенные стволы иудиных дерев на мощенный дворик со стареньким ревматичным фонтаном, где под известковой стеной тихо сидели, посасывая сушеные абрикосы, малыши Ллойд и Флойд (в то время мы носили иные имена, полные вороньих придыханий, - ну да не важно). Тогда, внезапно, "Ж" сталкивалась с "К", римская два с единицей, ножницы видели нож.
Нельзя, конечно, и сравнивать этот познавательный толчок, каким бы ни был он будоражащим, с эмоциональным ударом, постигшим мою мать (и кстати, сколько чистого блаженства в таком намеренном применении притяжательного в единственном числе!). Она должна была сознавать, что рожает двойню, но узнав, как она несомненно узнала, что двойня оказалась спряженной, - что она испытала тогда? При той несдержанной, невежественной, неистово говорливой родне, что нас окружала, вопль домочадцев должен был подняться прямо у ее измятого ложа, сразу дав ей понять, что случилась какая-то страшная беда; да можно с уверенностью сказать, что в лихорадке испуга и сострадания сестры показали ей двойное дитя. Я не говорю, что мать не может любить такое сдвоенное существо - и забыть в этой любви о темной росе его неблагого зачатия; я только думаю, что смесь отвращения, жалости и материнской любви оказалась ей не по силам. Обе части двойного набора, оказавшиеся перед ее испуганными глазами, были здоровыми, симпатичными маленькими частями с шелковистым светлым пушком на лиловаторозовых черепках, с хорошо сформированными каучуковыми ручками-ножками, двигавшимися словно множество щупалец какого-то диковиного морского животного. Каждая была явно нормальной, но вместе они образовали чудовище. И впрямь, странно думать, что простая полоска ткани, ломоть плоти размером не более печени ягненка способен превратить радость, гордость, нежность, обожание и благодарность перед Господом в отчаяние и ужас.
В собственном нашем случае все было много проще. Взрослые слишком и во всех отношениях отличались от нас, чтобы понудить к какому-либо сравнению, но первый же сверстник, нас посетивший, явил мне маленькое откровение. Покамест Ллойд безмятежно созерцал пораженного жутью ребенка лет семи или восьми, который глазел на нас из-под горбатого и столь же глазастого инжира, я, помнится, вполне уяснил существенное различие между собой и этим новым лицом. Он отбрасывал на землю короткую синюю тень, я тоже; но в добавление к этому схематичному, плоскому и нестойкому спутнику, которым и он, и я были обязаны солнцу, и который покидал нас в пасмурную погоду, я обладал еще одной тенью, осязаемым отраженьем моего телесного я, бывшим всегда при мне, слева, тогда как мой гость как-то сумел потерять свою тень или отстегнуть и оставить дома. Соединенные Ллойд и Флойд были нормальны и полноценны, а этот - ни то ни се.
Но может быть для того, чтобы прояснить этот предмет в той полноте, которой он заслуживает, я должен что-то сказать о еще более ранних воспоминаниях. Пожалуй, - если только повзрослевшие чувства не заслонили более ранних,- я мог бы положительно засвидетельствовать воспоминания о легком отвращении. Вследствие нашей передней спаренности мы изначально лежали лицом друг к дружке, соединенные общим пупом, и в те первые годы нашего существования мое лицо все время терлось о твердый нос и мокрые губы моего двойника. Естественным следствием этих утомительных соприкасаний стала у нас привычка откидывать головы и отстранять лица по возможности дальше. Значительная гибкость соединивших нас уз позволила нам взаимно принять более или менее боковую позицию, и научившись ходить, мы так и ковыляли бок о бок, что могло представляться требующим гораздо больших усилий, чем оно было на деле, ду маю, мы походили на парочку пьяных гномов, подпиравших один другого. Во сне мы еще долго возвращались в утробную позу; но всякий раз, что ее неудобство нас пробуждало, мы вновь отдергивали лица, с отвращением их отвращали и разражались сдвоенным ревом.
Я утверждаю, что года в три - в четыре наши тела смутно невзлюбили их неловкое сопряженние, хотя сознания и не задавались вопросом о его нормальности. Затем, прежде чем мы сумели осознать его недостатки, телесная интуиция обнаружила средства умерить их, после чего мы вообще о них не задумывались. Каждое наше движение стало сводиться к благоразумному компромиссу общего с отдельным. Рисунок действий, вызванных той или этой взаимной нуждой, образовывал своего рода серый, гладкотканный, абстрактный фон, по которому отдельный порыв, его или мой, следовал курсом более ярким и резким, но (направляемый, так сказать, изгибами основного узора) никогда не шел поперек общего переплетения или же прихоти двойника.
Я сейчас говорю исключительно о нашем детстве, когда природа еще не могла позволить нам подорвать нашу с трудом завоеванную живучесть каким-то взаимным конфликтом. В поздние годы мне случалось пожалеть, что мы не погибли или не были разделены хирургически еще до того, как миновали эту начальную стадию, на которой вечноприсущий ритм, подобный дальним ударам там-тама в джунглях нашей нервной системы, один отвечал за настройку наших движений. Когда, например, один из нас почти наклонялся, чтобы присвоить цветочек, а другой именно в этот миг тянулся за созревшим инжиром, личный успех зависел от того, чье именно движение совпадало с сиюминутным биеньем нашего общего и непрерывного ритма, и тут же с кратким, как при виттовой пляске, содроганьем, прерванный жест одного близнеца утопал и истаивал в обогащенной им зыби завершенного действия другого. Я говорю "обогащенной", потому что призрак несорванного цветка, казалось, тоже был здесь, - дрожал между пальцами, охватившими плод.
Могли проходить недели, даже месяцы, во время которых направляющее биение чаще принимало сторону Ллойда, а не мою, потом наступал черед мне оседлать гребень волны; но я не могу припомнить из нашего детства ни единого случая, чтобы невезение или успех по этой части возбудили в ком-то из нас негодование или гордыню.
Впрочем, где-то во мне, верно, сидела чувствительная клетка, дивившаяся странной силе, что вдруг относила меня от предмета случайного вожделения и тащила к иным, нежеланным вещам, которые вталкивались в круг моей воли вместо того, чтобы ждать, пока ее усики сознательно достигнут их и оплетут. Поэтому, следя за тем или этим ребенком, следившим за Ллойдом и мной, я, помнится, решал двойную проблему: во-первых, не больше ли преимуществ в одиночной телесности, нежели в той, которой мы обладаем; и во-вторых, все ли прочие дети - одиночки. Теперь мне приходит в голову, что очень часто проблемы, которые я пытался решать, были двойными: видать, и Ллойд что-то там обмозговывал, и это что-то струйками проникало в мой разум, и одна из соединенных проблем принадлежала ему.
Когда алчный дедушка Ахем решился за деньги показывать нас посетителям, в валом повалившей толпе всегда находился мерзавец, желавший послушать, как мы говорим друг с другом. Как часто бывает у простоумных людей, ему требовалось, чтобы уши потвердили то, что видят глаза. Наша родня понукала нас удовлетворять желания этого рода и никак не могла уяснить, что в них такого мучительного. Мы могли бы сослаться на застенчивость, но правда была в том, что мы никогда по-настоящему не г о в о р и л и друг с другом, даже наедине, ибо краткое отрывистое ворчание нечастой укоризны, каким мы обменивались порой (когда, к примеру, один порежет ногу и только ее забинтуют, как другому приспичит плескаться в ручье), вряд ли могло сойти за диалог. Передачу основных простых ощущений мы осуществляли без слов: то были опавшие листья, плывшие по течению нашего общего кровотока. Мыслям пожиже тоже удавалось кое-как просочиться, и они блуждали между нами. Те, что побогаче, каждый держал при себе, впрочем и тут случались явления странные. Вот почему я подозреваю, что Ллойд боролся с теми же новыми реальностями, что смущали меня. Он многое забыл, когда вырос. Я не забыл ничего.