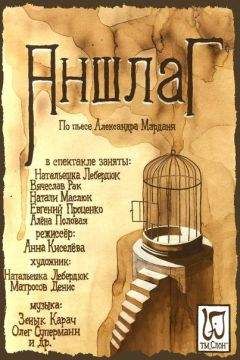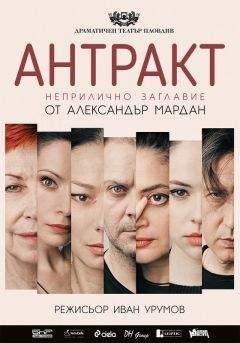ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: Хромые танцуют, меццо-сопрано на коньках катается.
ЛАРИСА: На коньках и медведи катаются. Зрителям интересно не как они танцуют, а с кем они падают.
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: Да, чайка — птица злая… По себе судишь?
ЛАРИСА: А что, кто-то судит по-другому?
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: Тогда почему у нас аншлаг? На сцене не скользко.
ЛАРИСА: Ждут, чтобы наш герой споткнулся, а еще лучше — разбился.
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: Не дождутся.
ЛАРИСА: Евгений Сергеич, а правда, что он под костюм бронежилет надевает?
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: Нет, только шлем.
ЛАРИСА: Какой шлем?
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: Как у космонавтов.
ЛАРИСА: Все время шутите… Вопросов больше нет, спасибо.
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: Это тебе большое спасибо за известность, в которую ты меня поставила.
ЛАРИСА: Большое Вам на здоровье, Евгений Сергеич.
Выходит из кабинета.
Прошла неделя. Пустая сцена театра. На сцене Евгений Сергеевич прохаживается в режиме туда — сюда. Появляется опоздавшая Настя.
АНАСТАСИЯ: Евгений Сергеевич, извините, опоздала, пробки.
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: Знаете, почему женщины живут дольше мужчин?
АНАСТАСИЯ: Нет.
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: Они все время опаздывают… Поскольку Треплев на больничном — я буду за него реплики подавать, а за Чехова ремарки. Давайте с того места, где он целовал землю.
АНАСТАСИЯ: «Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Меня надо убить. Я так утомилась! Отдохнуть бы… отдохнуть!»
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: Не надо страдать. Когда страдают, жалеют себя, а она просит прощения у Треплева: «Вы прекрасный, умный человек, Вы много лучше Тригорина, но люблю я его. Я может и хотела бы, но, к большому сожалению, не могу дать Вам то, о чем Вы просите». От жалости к нему у нее почти останавливается дыхание, поэтому она не кричит. Не стонет. Это почти шепотом. И не заламывайте руки. Это раньше в театрах слышно было хорошо, а видно плохо, поэтому нужны были крупные жесты.
АНАСТАСИЯ: Понятно. (Продолжает). «Я — чайка»…
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: Стоп-стоп-стоп… Что Вы царевну-лебедь играете? Этот повторяющийся рефрен: «Я чайка» — это борьба за жизнь. Она смертельно больна этой любовью, но пытается выжить.
АНАСТАСИЯ: Ясно. (Продолжает). «Не то. Я — актриса».
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: И сразу: нет, я жива, я теперь личность, хоть и без него.
АНАСТАСИЯ: «И он здесь»…
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: Она успокаивает себя, почти медитирует, чтоб взять себя в руки. «Он здесь — это ничего, это нормально, я спокойна, я почти спокойна. Я успокоюсь!»
АНАСТАСИЯ: «Он не верил в театр, все смеялся над моими мечтами, и мало-помалу я тоже перестала верить и пала духом… А тут заботы любви, ревность, постоянный страх за маленького… Я стала мелочною, ничтожною, играла бессмысленно… Я не знала, что делать с руками, не умела стоять на сцене, не владела голосом. Вы не понимаете этого состояния, когда чувствуешь, что играешь ужасно. Я — чайка. Нет, не то… Помните, Вы подстрелили чайку? Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил… Сюжет для небольшого рассказа»…
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: За неимением Тригорина она извинения перед ним высказывает Треплеву. Говорит о том, что такую женщину, которой она была, невозможно любить. Можно лишь презирать. И Тригорин не виноват, что бросил ее. Это она виновата, что была такой мелочной, бездарной на сцене.
АНАСТАСИЯ: «Теперь уж я не так… Я уже настоящая актриса, я играю с наслаждением, с восторгом, пьянею на сцене и чувствую себя прекрасной. А теперь, пока живу здесь, я все хожу пешком, все хожу и думаю, думаю и чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы… Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле — все равно, играем мы на сцене или пишем — главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а уменье терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни».
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: Вот здесь уже лучше… В словах об умении терпеть я слышу голос Антона Павловича. И он знает, о каком творческом терпении идет речь. Между провалом «Чайки» в Петербурге и триумфом ее в Москве прошло два года.
АНАСТАСИЯ: Когда он писал «Чайку», об этих провалах и успехах еще ничего не знал.
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: Логично… Но предвидел, исходя из собственного опыта. Не спорьте с режиссером, а терпите и веруйте. Ваша героиня умоляет Треплева найти какой-то способ рассказать Тригорину, что она стала другой, такой, как он хотел. Рассказать ему об этом, чтоб он вернулся к ней. И это даже не просьба, это мольба о том, чтобы ее оставили жить, чтобы не убивали. А Вы сейчас словно на собрании героическую биографию рассказываете. Не забывайте, что задача театра — расстрогать. Расстрогать зрителя, а не удивить. Удивляться он ходит в цирк. Так, дальше я за Треплева.
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: «Вы нашли свою дорогу, вы знаете, куда идете, а я все еще ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не верую и не знаю, в чем мое призвание».
АНАСТАСИЯ: «Тсс… Я пойду. Прощайте. Когда я стану большою актрисой, приезжайте взглянуть на меня. Обещаете? А теперь… (Пожимает руку.) Уже поздно. Я еле на ногах стою… я истощена, мне хочется есть»…
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: «Останьтесь, я дам вам поужинать»…
АНАСТАСИЯ: «Нет, нет… Не провожайте, я сама дойду… Лошади мои близко… Значит, она привезла его с собою? Что ж, все равно. Когда увидите Тригорина, то не говорите ему ничего… Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде… Сюжет для небольшого рассказа… Люблю, люблю страстно, до отчаяния люблю. Хорошо было прежде, Костя! Помните? Какая ясная, теплая, радостная, чистая жизнь, какие чувства, — чувства, похожие на нежные, изящные цветы… Помните? Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, — словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли».
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: Достаточно. Как Вы думаете, зачем Нина признается Косте в любви к Тригорину? Ведь этим она его убивает. Через несколько минут он застрелится. Это убийство по неосторожности или умышленное?
АНАСТАСИЯ: Скорее — в состоянии аффекта.
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: Как на войне? Там все убивают в состоянии аффекта, наверно поэтому не несут ответственности. Нет, здесь другое. Чем Костя ее спровоцировал? Откуда такая жестокость? Или бездушность… Говорит одно, думает другое, делает третье. Делает больно когда-то любимому человеку и тем самым убивает его.
АНАСТАСИЯ: Вы на самом деле так думаете?
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: Так думает Борисов, а я ищу в его рассуждениях ошибку.
АНАСТАСИЯ: Говорят, он раз десять приходил на «Чайку».
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: Значит, зацепило. Увидел то, что волнует.
АНАСТАСИЯ: Можно, мы сделаем перерыв и я покурю?
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: Давайте не будем, я Вас лучше леденцами угощу. (Угощает Настю конфетами). С их помощью бросил курить, чего и Вам желаю.
АНАСТАСИЯ: Евгений Сергеевич, они играют «Представление» три месяца. Можно, я задам бестактный вопрос? А где режиссура? Ее там не видно.
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: Хвала режиссеру, чьи уши не торчат из-за спин актеров.
АНАСТАСИЯ: Интересная история — драматургии нет, режиссуры не видно, а аншлаг имеется.
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: Кстати, у немецкого слова много значений: удар, расчет, покушение, и даже игра в палочку-выручалочку. Что касается того, что все билеты на спектакли проданы, то «чем дальше от театра, тем ближе к нему»… Актер бывает вооруженным и безоружным. В первом случае он выходит на сцену, и ему все режиссер выстроил, он заранее знает все движения, мысли и эмоции персонажа. Такой актер защищен. А когда намечен только общий рисунок роли, актер рискует, но в момент игры рождается нечто живое, единственное в своем роде… Конечно, проще выходить в броне отрепетированного, главное не приклеиться к бороде своего героя. Но искренность, которая рождается в момент репетиции исчезает… Как исчезает живое вино, которое обрабатывают серой и запечатывают в бутылки. Репетиция — это «хочу как раньше», в результате артист играет, как вчера, а должен как сегодня.
АНАСТАСИЯ: Почему Вы со мной так не работаете?
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ: К классике подход классический. Тренироваться будем на современниках.