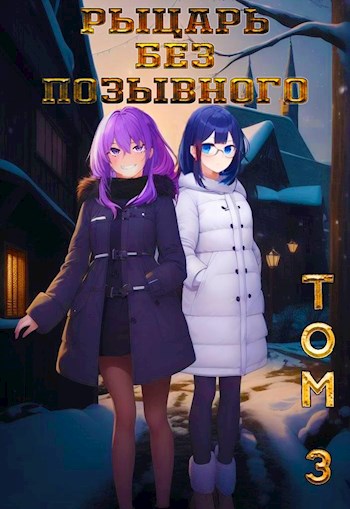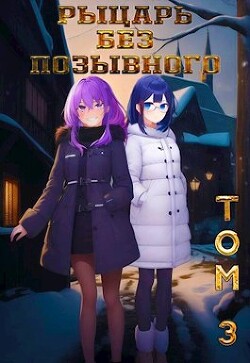— Хочу-у-у…
Склонившись над столом, брюнетка бесконтрольно рыдала, щедро орошая пустые бланки. Вышитая рубашка управляющей смотрелась на ней, как на ребенке, напялившем одежду родителей. А уж про слезы над столом особистки…
Будто за святотатством наблюдаю. Не так себя в этом кабинете ведут. Вообще не так.
— Ну и хорошо. Только успокойся. И давай по порядку. Что, где, когда… Че у вас тут за месяц-то наворотили?
И самое главное — нахрена. Салон понять могу, там демоны письками светили да вампиры в подвалах отсыпались. Тетку тоже можно допустить — она и мертвого достанет. Но Эмбер-то тут каким хреном? Этож гильдия! Им по уставу не положено носы в интриги совать!
Из-за меня, что ли…
— Да успокойся же, ну! Подумаешь — наорали! В сердцах же!
Усилившиеся всхлипы подсказали, что с женщинами я обходиться умею еще хуже, чем с городами.
— Ладно, сиди здесь… — убрав руку от ее плеча, я застучал берцами по ковру. — Будет тебе подружка.
Если эта чертова Киара уже не слиняла, почуяв запах жаренного. Уж кому-кому, а ведьме точно с городу тикать пора. Да и мне не помешало бы. Впрочем, когда это я отличался здравым смыслом?
Глава 9
Слепой против бешеного
Сотник приложил компресс к пустой глазнице, тряпка обожгла огнем, а боль прошибла до затылка. Крякнув, он допил лекарство и снова приложил компресс. Проклятая жара, проклятая пыль, ветер забивает во все щели, вот и в рану попадает, зудит. Одна только горькая помогает, да и то на день другой.
Близость вездесущей грязи вынудила вспомнить о глазной повязке, покоящейся в недрах массивного стола. Верно лекари повторяют, увечья в покое хранят, а не на смотрины выставляют — глазнице зажить дать надобно, а не раздражать попусту.
Коли уродством красоваться не перед кем…
Едва шелковая подкладка закрыла дыру на месте глаза, как за дверью послышалась нарочито громкая поступь. Резко сорвав и спрятав повязку, сотник грозно свел брови.
— Да посадник я, посадник — без твоего упомню… — отмахнувшись от дежурного приветствия, он сразу перешел к делу. — Почем там с конелюбами? В замок возвертались?
— Точно так, за стены заползли! Цельным эскадроном да с Куролюбом в придачу! — нервно дрогнул городовой, загипнотизированный пустой глазницей. — А к-караван купеческий к воротам колеса катит — велите придержать?
— Я тебе дам, придержать — порток не удержишь! Наказ позабыл — торговле не препятствовать⁈ Запамятовал, что за своеволие случается⁈
Побледневшее лицо подчиненного лишь добавило жара в закипающий в глазнице зуд. Гаркнуть не успел, а он уже исподнее обгадил. Пахари малохольные, нежные что твои огурцы… Сколько кольчуг да копий им не выдай, а все одно — холопские сынки. Ни выучки, ни норова — только бороды под дружинников стричь горазды, да черточки у своих топчанов зачеркивать, отсчитывая дни до конца службы и положенную землю с вольной.
«А че ты от срочников хотел? Не все же такие отбитые, как мы…» — вопреки причудливости, давно услышанные слова послужили пожарной командой для закипающей злости. В самом деле, чего еще от этих холопов ждать? Прав был «кукушонок». За битого — трех небитых дают. А за отбитого тем паче.
Жестом отпустив десятника и наказав ему не притрагиваться к купцам, сотник с неудовольствием заметил, что стражник не спешит покидать кабинет. Уподобляясь девке на выданье и переминаясь на месте, он с томным видом разглядывал массивный стол, на котором виднелся пергамент с печатью инспектора.
— Язык проглотил⁈ Щипцами вынуть⁈
— Это… А до срамной избы… То бишь, до дворца княжеского — вестового посылать? Круглобрюхому о конелюбах доложиться?
— Содомит пухлый лучше нашего ведает, кто да пошто эскадроны к Куролюбам подсылает. А коли нет, пущай телеса растрясывает, да сам до гарнизона топает! Еще чего, челобитные ему слать… — неуверенность на лице подчиненного заставила сотника сжать кулаки. — На пост вертайся! Да гляди, коли на карман принять удумаешь — суровой нитью зашью!
Памятуя судьбы непонятливых сослуживцев, смевших как в былые времена трясти взятки с караванщиков, городовой стукнул древком копья о ковер, и затопал в коридор, оставляя посадника наедине со спрятанной повязкой.
Вспомнив лицо подчиненного при виде его пустого глаза, бывший дружинник хмуро покачал головой:
— Сталь не лаской закаляют…
Как говаривали предки, удобряя корни — дерева не срубить, как и не стать сильнее, нежась в слабости. Сколько повязок не нацепи, а ничего не переменится.
Скомкав ткань, он зашвырнул ее в грубую каменную печурку, слаженную наспех еще зимой и, словно стремясь подтвердить слова делом, остановился у бойницы намеренно врываясь в конус пляшущей пыли.
Редкие фигуры горожан стремились как можно скорее миновать тень разрушенной башни, не желая задерживаться возле гарнизона. Городовые и в прежние дни не купались в людской любви, а уж при инспекторе вовсе от презрения да опаски едва не возгораются.
Но какое дело пастуху, до блеяния овец?
Сотник испытывал противоречивые чувства — с одной стороны ему страсть как не нравилось дозволять конелюбу «реквизировать» силы гарнизона для нужд пустого трона, а с другой, стремительность и бескомпромиссность южной ищейки украсила бы и северянина. Всю нечисть, всю грязь на корню изводит, не чураясь запачкать холеные толстые руки.
Даже дезертирами не побрезговал, свершив запоздалый суд над трусами, посмевшими бросить собратьев в канализации перед ликом хрипящего чудища. Стоило сотнику нехотя подготовить для инспектора доклад о тех событиях, как чистка нечистот в рядах гарнизона пронеслась быстрее молнии — в тот же день все причастные оказались вызваны в княжескую резиденцию.
После допросов многие отправились за мост, неся на щеках свежие клейма позора, а некоторые… За судьбу исчезнувших перед посадником инспектор не отчитался. И в пекло их. Виновен и точка. Никаких «обосраться может каждый», никакого «а новых где родишь?», и прочих отговорок сердобольного «кукушонка», вьющегося ужом, лишь бы не дозволить свершиться правосудию.
— Сказочный дурачок… Как его только за ворота выпустили? — раздраженно фыркнул сотник, поминая княжеского порученца.
Одобрение и порицание переплетались в его голосе так же, как и сам образ «кукушонка», отпечатавшийся в памяти крепче иной девки. Упрямый и податливый, своевольный и ведомый, сочетая ежа с ужом, он наповал разил глупостью, раздражая дальновидностью.
Жить посреди курятника и не стоптать ни единой бабенки, пожимая княжескую длань, вытирать зад Куролюбу, высокомерно морщась от титулов, подобострастно служить пастухам. И слепому ведомо, никакой он не кукушонок. С конелюбами он ведет себя не ловчее, чем с северянами, повергая их в такое же озадаченное недоумение.
Любой иной стал бы предметом насмешек, прослыв городским дурачком, но к этому и пыль не приставала. Разве что девахи молодые щебетать горазды, обмениваясь выдумками о срамной связи северного рыцаря с его женоподобным оруженосцем.
До появления инспектора разговоров и было что о новой выходке отмороженного рыцаря да ценах загребущих караванщиков. То тварь лютую в канализации сыщет, то ростовщика поломает, то купца обломает. А уж как торгаши принесли на устах вести о Живорезе…
И все же сотник не разделял мнения своих городовых, морщась каждый раз, когда речь за трапезой спотыкалась о кукушонка. Да, славный он мужичок, умом крепок да плечом широк. Охотник старый в друзьях-товарищах, да рожа шрамами окрашена. Хорош золотник, а всеж сусальный.
Нет в нем стержня студеного. Гдеж то видано, чтобы собственной власти страшиться? Чтобы нос от долга да чести воротить, да аки кормилица всех под юбкой хоронить? Дезертиров миловать, трусов прощать, воришек золотом взамен топора угощать, плевки утирать, а на похвалу волком скалиться? Ратное дело презирая, хлебопашцев вознося, и собратьев за резкость клеймя?
Не тому предки силу даровали, не тому…