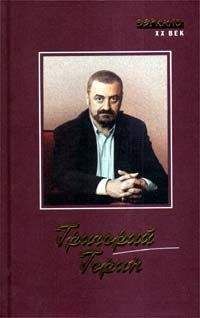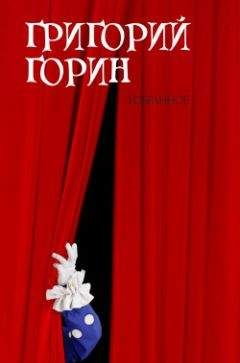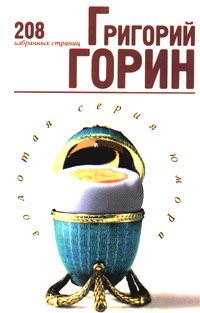Ознакомительная версия.
Григорий Горин
Автобиография
Насколько мне не изменяет память, я родился в Москве 12 марта 1940 года ровно в двенадцать часов дня. Именно в полдень по радио начали передавать правительственное сообщение о заключении мира в войне с Финляндией. Это известие вызвало, естественно, огромную радость в родовой палате. Акушерки и врачи возликовали и некоторые даже бросились танцевать. Роженицы, у которых мужья были в армии, позабыв про боль, смеялись и аплодировали.
И тут появился я. И отчаянно стал кричать…
Не скажу, что помню эту сцену в деталях, но то странное чувство, когда ты орешь, а вокруг все смеются – вошло в подсознание и, думаю, в какой-то мере определило мою судьбу…
* * *
Писать я начал очень рано. Читать – несколько позже. Это, к сожалению, пагубно отразилось на моем творческом воображении. Уже в семь лет я насочинял массу стихов, но не про то, что видел вокруг, скажем, в коммунальной квартире, где проживала наша семья, а, в основном, про то, что слышал по радио. Радио в нашей квартире не затихало. По радио шла холодная война с империалистами, в которую я немедленно включился, обрушившись стихами на Чан-Кай-ши, Ли-сын-мана, Адэнауэра, Де Голля и прочих абсолютно не известных мне политических деятелей. Нормальные дети играли в казаков-разбойников или боролись во сне со Змеем Горынычем. Я же вызывал на смертный бой НАТО и Уолл-стрит!..
Воротилы Уолл-стрита,
Ваша карта будет бита!
Мы, народы всей земли,
Приговор вам свой произнесли!..
и т.д.
Почему я считал именно себя «народами всей земли», даже и не знаю.
Но угроза подействовала! Стихи политически грамотного вундеркинда стали печатать в газетах.
В девять лет меня привели к Самуилу Яковлевичу Маршаку. Старый добрый поэт слушал мои стихи с улыбкой, иногда качал головой и повторял: «О, господи, господи!..»
Это почему-то воспринималось мною как похвала.
– Ему стоит писать дальше? – спросила руководительница литературного кружка, которая и привела меня к поэту.
– Обязательно! – сказал Маршак. – Мальчик поразительно улавливает все штампы нашей пропаганды. Это ему пригодится. Если поумнеет, станет сатириком! – и, вздохнув, добавил: – Впрочем, если станет сатириком, то, значит, поумнеет не до конца…
Так определился мой литературный жанр.
К четырнадцати годам, убедившись в незыблемости империализма, я порвал с международной тематикой и перешел к внутренним проблемам. Стал писать фельетоны, сценки, рассказы на школьные темы. В восьмом классе, после исполнения на вечере куплетов о хулиганах, меня здорово отлупили…
Это и был мой первый настоящий успех на выбранном пути. И позже бывали удачи – закрывали мои спектакли, запрещали фильмы, но вот о такой живой и непосредственной реакции на меткие остроты приходилось только мечтать…
* * *
Заканчивая школу, я твердо решил, что стану писателем. Поэтому поступил в медицинский институт.
Это было особое высшее учебное заведение, где учили не только наукам, но и премудростям жизни.
Сегодня только ленивый не ругает нашу медицину. Я же остаюсь при убеждении, что советский врач был и остается самым уникальным специалистом в мире, ибо только он умел лечить, не имея лекарств, оперировать без инструментов, протезировать без материалов…
Поставить бы в такие условия выпускников Бостонского и Калифорнийского университетов, хотел бы я на них посмотреть… Как бы они справились с нашими многоразовыми шприцами и одноразовыми градусниками…
То, что за рубежом пробовали лишь на мышах, мы проверяли на себе!
И как, например, мне забыть нашего заведующего кафедрой акушерства профессора Жмакина, который ставил перед студентами на экзаменах такие задачи:
– Представьте, коллега, вы дежурите в приемном отделении. Привезли женщину. Восемь месяцев беременности. Начались схватки… Воды отошли… Свет погас… Акушерка побежала за монтером… Давление падает… Сестра-хозяйка потеряла ключи от процедурной… Заведующего вызвали в райком на совещание… Вы – главный! Что будете делать, коллега? Включаем секундомер… Раз-два-три-четыре… Женщина кричит! Думайте! Пять-шесть-семь-восемь… Думайте! Все! Женщина умерла! Вы – в тюрьме! Освободитесь – приходите на переэкзаменовку!..
Тогда нам это казалось иезуитством. Потом, на практике, убедились, что жизнь ставит задачки и потрудней, и сделали для себя главный вывод: не бывает бесплатной медицины! За все медик и пациент поровну платят своими нервами и здоровьем…
* * *
Учась в институте, а позже работая врачом «Скорой помощи» в Москве, я продолжал писать рассказы, фельетоны, монологи, сценки. Одним словом, стал тем, что у нас называется «писатель-сатирик».
(Один американский исследователь справедливо заметил, что советский сатирик был самым изобретательным в мире, поскольку только он, имея всего две-три разрешенные властями темы для творчества, был способен сочинять бесчисленное количество вариантов.)
К началу семидесятых годов у меня вышло уже несколько книг рассказов и пьес, я был принят в Союз писателей и решил проститься с работой в «Скорой помощи».
Антон Павлович Чехов писал: «Медицина – моя жена. Литература – моя любовница». Я тоже долго метался между этими двумя дамами сердца, пока не возникли новые увлечения мужского и среднего рода —
Театр и Кино!
Эта компания завладела мной полностью, не оставляя времени ни на рассказы, ни на то, чтобы лечить других, ни на то, чтобы лечиться самому…
Начинались так называемые «застойные времена». Я беру эти слова в кавычки, потому что в искусстве застоя вообще не бывает. Живая идея всегда пробивалась к жизни, как трава из-под асфальта…
Поэтому настоящие прозаики писали «в стол», кинематографисты клали готовые фильмы «на полки», художники развешивали свои картины на кухнях…
Театру, может быть, было труднее всего! Ему нужен был зритель, и не будущий, а современник! И говорить хотелось в полный голос, не спотыкаясь о бесконечные запреты…
Я решил помочь зрительской фантазии. Стал сочинять пьесы-притчи, основанные на исторических и литературных легендах. Первая из них называлась «…Забыть Герострата!» …Древний греческий город Эфес, сожженный храм, беспородный хам, рвущийся к власти… Мне казалось, думающие люди меня поймут.
Пьеса имела успех. Люди все поняли. Цензоры тоже.
Работник Министерства культуры с выразительной фамилией Калдобин задал мне уникальный по изобретательности вопрос.
– Григорий Израилевич, – сказал он мне, – вы же русский писатель? Так?! А зачем же вы тогда про греков пишете, а?
Я не нашелся, что сказать в ответ. Да и как можно было объяснить этому убогому чиновнику, что кроме его учреждения существует иное пространство, имя которому – Вселенная, и кроме его календарика с красными датами существует иное время, имя которому – Вечность. И если жить по этому летосчислению, то получается, что все люди – и жившие, и живущие, и готовящиеся к жизни – современники.
И тогда фламандский шут Тиль Уленшпигель становится понятен своим московским сверстникам и призывает их к свободе, немецкий барон Мюнхгаузен учит русских людей ненавидеть ложь, а английский сатирик Джонатан Свифт – иронии и сарказму…
Я перечислил спектакли и фильмы, которые мы делали вместе с режиссером Марком Захаровым. А еще были пьесы, поставленные в Театре сатиры Андреем Мироновым… И фильм «О бедном гусаре…», снятый вместе с Э. Рязановым…
Короче, в застойные годы мне лично азартно и интересно работалось. Было много трудностей и препятствий, но сегодня как-то и не хочется о них вспоминать. Может, для сатирика необходимы нажим и запреты, чтобы совершенствовать форму сопротивления?
А может, это время вспоминается так радостно потому, что я был просто моложе и наивней?!..
Перестройка круто изменила нашу жизнь.
Глоток свободы!.. Еще глоток! Еще! Мы упивались свободой! В России всегда пьют до одурения, забывая, что наступает похмелье…
Через несколько лет мы проснулись и протрезвели неизвестно в какой стране, неизвестно в какой исторической эпохе.
Одни говорят, что у нас «ранний капитализм», другие – «поздний феодализм». Третьи предпочитают термин «постсоциалистический маразм».
Трудно со всеми не согласиться!
Вообще трудностей прибавилось всем, включая тех, кто занимается искусством. Искусство всегда требовало жертв или, по крайней мере, пожертвований… А где их взять в огромной, распавшейся державе?..
Впрочем, жалобы надоели! Хорошо сказал поэт, мой ровесник:
Времена не выбирают.
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете
Нет – на времена пенять…
Будто можно «те» на «эти»,
Как перчатки, поменять!
И поскольку время поменять нельзя, можно поменять свое отношение к нему.
И не впадать в отчаяние. Что я и пытаюсь делать, сочиняя новые пьесы, выпуская новые книги, в том числе и эту. Т. е. по мере сил работаю над продолжением собственной автобиографии…
Ознакомительная версия.