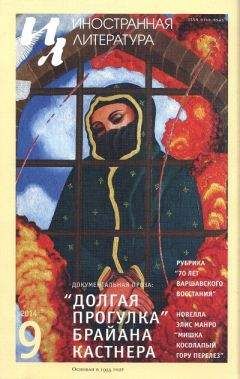I.
Будучи принципиальным противником строго обоснованных, хорошо разработанных планов, Мишка Саматоха перелез невысокую решетку дачного сада без всякой определенной цели.
Если бы что-нибудь подвернулось под руку, он украл бы; если бы обстоятельства располагали к тому, чтобы ограбить, — Мишка Саматоха и от грабежа бы не отказался. Отчего же? Лишь бы после можно было легко удрать, продать «блатокаю» награбленное и напиться так, «чтобы чертям было тошно».
Последняя фраза служила мерилом всех поступков Саматохи… Пил он, развратничал и дрался всегда с тем расчетом, чтобы «чертям было тошно». Иногда и его били, и опять-таки били так, что «чертям было тошно».
Поэтическая легенда, циркулирующая во всех благо воспитанных детских, гласить, что у каждого человека есть свой ангел, который радуется, когда человеку хорошо, и плачет, когда человека огорчают.
Мишка Саматоха сам добровольно отрекся от ангела, пригласил на его место целую партию чертей и поставил себе целью всё время держать их в состоянии хронической тошноты.
И, действительно, мишкиным чертям жилось не сладко.
II.
Так как Саматоха был голоден, то усилие, затраченное на преодоление дачной ограды, утомило его.
В густых кустах малины стояла зеленая скамейка. Саматоха утер лоб рукавом, уселся на нее и стал, тяжело дыша, глядеть на ослепительную под лучами солнца дорожку, окаймленную свежей зеленью.
Согревшись и отдохнув, Саматоха откинул голову и замурлыкал популярную среди его друзей песенку:
Родила меня ты, мама,
По какой такой причине?
Ведь меня поглотить яма
По кончине, по кончине…
Маленькая девочка лет шести выкатилась откуда-то на сверкающую дорожку и, увидев полускрытого ветками кустов Саматоху, остановилась в глубокой задумчивости.
Так как ей были видны только Саматохины ноги, она прижала к груди тряпичную куклу, защищая это беспомощное создание от неведомой опасности, и, после некоторого колебания, бесстрашно спросила:
— Чьи это ноги?
Отодвинув ветку, Саматоха наклонился вперед и стал, в свою очередь, рассматривать девочку.
— Тебе чего нужно? — сурово спросил он, сообразив, что появление девочки и её громкий голосок могут разрушить все его пиратские планы.
— Это твои… ножки? — опять спросила девочка, из вежливости смягчив смысл первого вопроса.
— Мои.
— А что ты тут делаешь?
— Кадриль танцую, — придавая своему голосу выражение глубокой иронии, отвечал Саматоха.
— А чего же ты сидишь?
Чтобы не напугать зря ребенка, Саматоха проворчал:
— Не просижу места. Отдохну, да и пойду.
— Устал? — сочувственно сказала девочка, подходя ближе.
— Здорово устал. Аж чертям тошно.
Девочка потопталась на месте около Саматохи и, вспомнив светские наставления матери, утверждавшей, что с незнакомыми нельзя разговаривать, вежливо протянула Саматохе руку:
— Позвольте представиться: Вера.
Саматоха брезгливо пожал её крохотную ручонку своей корявой лапой, а девочка, как истый человек общества, поднесла к его носу и тряпичную куклу:
— Позвольте представить: Марфушка. Она не живая, не бойтесь. Тряпичная.
— Ну? — с ласковой грубоватостью, неискренно, в угоду девочке, удивился Саматоха. — Ишь ты, стерва какая.
Взгляд его заскользил по девочке, которая озабоченно вправляла в бок кукле высунувшуюся из зияющей раны паклю.
«Что с неё толку! — скептически думал Саматоха. — Ни сережек, ни медальончика. Платье можно было бы содрать и башмаки, — да что за них там дадут? Да и визгу не оберешься».
— Смотри, какая у неё в боку дырка, — показала Вера.
— Кто же это ее пришил? — спросил Саматоха на своем родном язык.
— Не пришил, а сшил, — поправила Вера, — Няня сшила. А ну, поправь-ка ей бок. Я не могу.
— Эх, ты, козявка! — сказал Саматоха, беря в руки куклу.
Это была его первая работа в области починки человеческого тела. До сих пор он его только портил.
III.
Издали донеслись чьи-то голоса. Саматоха бросил куклу и тревожно поднял голову. Схватил девочку за руку и прошептал:
— Кто это?
— Это не у нас, а на соседней даче. Папа и мама в городе…
— Ну?! А нянька?
— Нянька сказала мне, чтобы я не шалила, и она потом убежала. Сказала, что вернется к обеду. Наверно, к своему приказчику побежала.
— К какому приказчику?
— Не знаю. У неё есть какой-то приказчик.
— Любовник, что ли?
— Нет, приказчик. Слушай…
— Ну?
А тебя как зовут?
— Михайлой, — ответил Саматоха крайне неохотно.
— А меня Вера.
«Пожалуй, тут будет фарт», — подумал Саматоха, смягчаясь… — Эй, ты! Хошь я тебе гаданье покажу, а?
— А ну, покажи, — взвизгнула восторженно девочка.
— Ну, ладно. Да-кось руку… Ну, вот, видишь — ладошка. Во… Видишь, вон загибинка. Так по этой загибинке можно сказать, когда кто именинник.
— А ну-ка! Ни за что не угадаешь. Саматоха сделал вид, что напряженно рассматривает руку девочки.
— Гм! Сдается мне по этой загибинке, что ты именинница семнадцатого сентября. Верно?
— Верррно! — завизжала Вера, прыгая около Саматохи в бешеном восторге. — А ну-ка, на еще руку, скажи, когда мама именинница?
— Эх, ты, дядя! Нешто это по твоей руке угадаешь? Тут, брат, мамина рука требовается.
— Да мама сказала: в шесть часов приедет… Ты подождешь?
— Там видно будет.
Как это ни странно, но глупейший фокус с гаданием окончательно, самыми крепкими узлами приковал девочку к Саматохе. Вкус ребенка извилист, прихотлив и неожидан.
— Давай еще играть… Ты прячь куклу, я ее буду искать. Ладно?
— Нет, — возразил рассудительный Саматоха. — Давай лучше играть в другое. Ты будто бы хозяйка, а я гость. И ты будто бы меня угощаешь. Идет?
План этот вызвал полное одобрение хозяйки. Взрослый человек, с усами, будет как всамделишний гость, и она будет его угощать!!
— Ну, пойдем, пойдем, пойдем!
— Слушай ты, клоп. А у вас там никого дома нет?
— Нет, нет, не бойся, вот чудак! Я одна. Знаешь, будем так: ты будто бы кушаешь, а я будто бы угощаю!
Глазенки её сверкали, как черные бриллианты.
IV.
Вера поставила перед гостем пустые тарелки, уселась напротив, подперла рукой щеку и затараторила:
— Кушайте, кушайте! Эти кухарки такие невозможные. Опять, кажется, котлеты пережарены. А ты, Миша, скажи: «благодарю вас, котлеты замечательные!»
— Да ведь котлет нет, — возразил практический Миша.
— Да это не надо… Это ведь игра такая. Ну, Миша, говори!
— Нет, брать, я так не могу. Давай лучше я всамделишные кушанья буду ест. Буфет-то открыт? Всамделишно когда, так веселее. Э?
Такое отсутствие фантазии удивило Веру. Однако она безропотно слезла со стула, пододвинула его к буфету и заглянула в буфет.
— Видишь ты, тут есть такое, что тебе не понравится: ни торта, ни трубочек, а только холодный пирог с мясом, курица и яйца вареные.
— Ну, что ж делать — тащи. А попить-то нечего?
— Нечего. Есть тут да такое горькое, что ужас. Ты, небось, и пить-то не будешь. Водка.
— Тащи сюда, поросенок. Мы всё это по-настоящему разделаем. Без обману.
V.
Закутавшись салфеткой (полная имитация зябкой мамы, кутавшейся всегда в пуховой платок), Вера сидела на против Саматохи и деятельно угощала его.
— Пожалуйста, кушайте. Не стесняйтесь, будьте как дома. Ах, уж эти кухарки, — опять пережарила пирог, — чистое наказание.
Она помолчала, выжидая реплики.
— Ну?
— Что ну?
— Что ж ты не говоришь?
— А что я буду говорить?
— Ты говори: «<лагодарю вас, пирог замечательный».
В угоду ей проголодавшийся Саматоха, запихивая огромный кусок пирога в рот, неуклюже пробасил:
— Благодарю вас… пирог знаменитый!
— Нет: замечательный!
— Ну, да. Замечательный.
— Выпейте еще рюмочку, пожалуйста. Без четырех избов угла не строится.
— Благодарю вас, водка замечательная.
— Ах, курица опять пережарена. Эти кухарки — чистое наказание.
— Благодарю вас, курица замечательная, — прогудел Саматоха, подчеркивая этим стереотипным ответом полное отсутствие фантазии.
— В этом году лето жаркое, — заметила хозяйка.
— Благодарю вас, лето замечательное. Я еще баночку выпью!
— Нельзя так, — строго сказала девочка. — Я сама должна предложить… Выпейте, пожалуйста, еще рюмочку… Не стесняйтесь. Ах, водка, кажется, очень горькая. Ах, уж эти кухарки. Позвольте, я вам тарелочку переменю.
Саматоха не увлекался игрой так, как хозяйка; не старался быть таким кропотливым и точным в деталях, как она. Поэтому, когда маленькая хозяйка отвернулась, он, вне всяких правил игры, сунул в карман серебряную вилку и ложку.