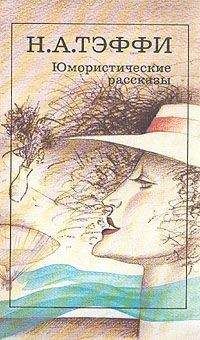Надежда Тэффи
Веселая вечеринка
Старуха Агафья успела уже убрать кухню и вычистить самовары, а Ванюшка-кучер все еще томился, ожидая возвращения барина.
– Скоро одиннадцать, – ворчала Агафья, вытирая толстые, обнаженные по локоть руки и глядя исподлобья на тоскующего парня. – Другой бы матери помог, коли время вышло, а мой только на вечерины ходить умеет да новые сапоги трепать. И в кого такой вышел! Ведь уродит же Господь!
Ванюшка молчал, хотя речь была направлена прямо против него, так как он как раз приходился Агафье родным сыном. Но ему было не до разговоров. Сегодня Танька, горничная земского начальника, устраивает бал. На балу будет только что выслуживший свой срок солдат Марковкин. Он хочет Таньку сватать, это все знают, но Ванюшка давно решил перешибить ему дорогу. Сегодня все выяснится. Отъедет солдат с поломанными ребрами!
Ванюшка мечтательно улыбается, разглядывая новые сапоги. Его белокурые волосы лоснятся от масла; под воротником голубой сатиновой рубашки красуется ярко-розовый муаровый бант, и это сочетание цветов во вкусе мадам Помпадур придает удивительно глупый вид его толстому, безусому и безбровому лицу.
– И куда пойдешь на ночь глядя? – ворчит мать, гремя посудой. – Угощенье все равно уж все съедено. Теперь парни, верно, уж драться начали, только даром шею намнут. Раньше двенадцати барин от лесничего не вернется. Пока лошадь уберешь – вот и первый час.
Сын молча вздыхает.
– Чего молчишь-то? Ты вот ленту муаровую у матери выпросил, а ты думал ли, чего эта лента матери стоила? Я ее, может, к причастию надеть и то жалела, на смертное платье берегла. Барышня-покойница дарила не знала, видно, что ты в ней на вечеринках, как лошадь, ржать будешь…
Снова молчаливый вздох.
– Думаешь, ленту напялил, так за тебя Танька замуж пойдет? Нет, парень! Не нашему носу рябину клевать -это ягода нежная! Марковкин-то почище тебя.
– Еще ничего не известно, – загадочно разинув
рот, ухмыльнулся Ванюшка.
– Как неизвестно? – обрадовалась Агафья, что ей, наконец, удалось вызвать сына на приятную беседу. – Все отлично известно. Ничего у тебя нету, и в кучеренках-то тебя держут потому, что мать жалеют. Не век же мне тоже в кухарках быть. Скоро ноги протяну. Без меня дня не останешься.
Во дворе залаяла собака.
Ванюшка вскочил и, закутав горло шарфом, чтоб не слишком поразить хозяина своим стилем Помпадур, пошел убирать лошадь.
Через десять минут, бодро подскрипывая по твердому снежному насту, бежал он к дому земского начальника.
Маленький городок давно уже успокоился. Фонари не горели, так как по календарю полагалась луна, почему-то в этот день на небесное дежурство не явившаяся.
В окнах тоже было темно. Светился только верхний этаж городского клуба и трактир с надписью: «Для приезжаю» («щих» не поместилось).
Ванюшка пересек главную улицу и, свернув влево, юркнул в ворота маленького двухэтажного домика, занимаемого земским начальником.
– Ну, куда же теперь? Тут темно, не напороться бы на что… Не то у ней кухня наверху, не то внизу. Никогда не бывавши, тоже не сразу поймешь. Хоть бы вышел кто из парней…
Он повернул вправо и налез на какую-то обледенелую кадку. Прямо стена. Налево лестница. Входную дверь он, войдя, машинально захлопнул и теперь никак не мог сообразить, с которой стороны он вошел.
Медленно, ощупывая ступеньки руками и ногами, влез он во второй этаж. Здесь тоже оказалось темно, и он долго шарил руками, не находя дверей.
– He! – решил он. – Кухня у ней внизу. Надо было там нащупать либо выйти и в окошко постучать.
И он, стуча каблуками, боком стал спускаться с лестницы. Он был уже почти в сенях, как вдруг страшный дикий крик, раздавшийся снизу, остановил его.
– Кто здесь! Стой, черт тебя возьми, не то я буду стрелять!…
Ошеломленный Ванюшка замер на одном месте.
Послышалось шуршанье спичечной коробки. Вспыхнул огонек.
Мелькнуло испуганное свирепое лицо земского начальника.
– А-а, каналья! Попался! Я тебе покажу! Ты у меня узнаешь, где раки зимуют.
Ванюшка сделал отчаянный прыжок, пытаясь увернуться от могучих рук земского начальника, ловивших его впотьмах…
Бац! Бац! Одна рука крепко держит за шиворот голубую рубаху с помпадуровым галстуком, другая, сжавшись в кулак, дважды въехала в Ванюшкину физиономию.
– Нет, голубчик, теперь не уйдешь!
И, продолжая наколачивать своего пленника, спотыкаясь и кряхтя, он поволок его вверх по лестнице.
Ванюшка молча упирался, медленно подвигался вперед и отчаянно брыкался ногами.
Ступеньки трещали, каблуки звонко щелкали, и спавшей наверху супруге земского начальника почудилось, будто какая-то взбесившаяся лошадь лезет к ней по лестнице. Барыня зажгла свечку и, испуганно крестясь, сидела на кровати. Дверь в спальню с треском распахнулась.
– Машенька! Вот рекомендую! – тяжело отдуваясь, торжествовал земский начальник.
Он поставил Ванюшку перед изумленной барыней, продолжая держать его за шиворот и изредка потряхивая.
– А хорош молодец? Возвращаюсь от лесничего, смотрю, ворота настежь. Подлые девки со своими балами совсем одурели, ни за чем не смотрят. Завтра всех к черту. Поднимаюсь по лестнице… здравствуйте! Лезет, голубчик! Я его подстерег, дал немножко спуститься да цап за шиворот. У меня не отвертишься.
– Да ты осторожней, Коленька, может быть, у него нож, – плаксиво затянула супруга.
Ванюшка, с перетянутым горлом, молчал, тяжело дыша, и только широко раскрывал рот, как рыба, которую лишили родной стихии.
. – Да ведь я… – попробовал было он, но тяжелый кулак, въехав ему под самый глаз, снова отнял у него дар слова.
– Молчать! – заревел земский начальник. – Еще разговаривать! Благодари Бога, что я полицию не зову. Другой бы сгноил тебя в остроге. Марш отсюда! Чтоб духу твоего не было. И товарищам своим скажи, чтоб дорогу ко мне забыли.
И он снова собственноручно сволок Ванюшку с лестницы, вытурил на улицу и запер ворота на засов.
Оставшись один, Ванюшка пустился бежать без оглядки и только в конце улицы немножко опомнился и огляделся. Пиджак был разорван, из носу лила кровь, лицо горело и ныло. Ванюшка потер нос снегом и захныкал:
– И чего он взбесился, черт окаянный! Что человек не в ту дверь попал, так его по морде лупить? Нет, это, брат, тоже не показано! За это, брат, тоже ответить можно. Закона такого нету, чтоб народ зря калечить.
Но, вспомнив, что все равно теперь на вечеринку не попадешь – ворота заперты, да и в таком виде куда уж тут, Ванюшка снова захныкал и, грустно опустив голову, побрел домой.
Двери отворила заспанная и сердитая Агафья.
– Что! Готово! Воротился! У него мать помирает, а он по балам, как лошадь, ржет. У матери поясницу ломит, а ему хоть бы что! Другой бы хоть колбасы кусок с гостей-то принес бы. Нате, мол, вам, мамаша, покушайте. Отец-то, покойник, бывало… – Она зажгла лампочку и, взглянув сыну в лицо, даже присела от изумления.
– Батюшки светы! Родители вы мои долгоногие! Да кто же это тебя так? Тут уж, видно, не один, тут трое либо четверо работало! Эко тебя качает. Ну, и нахлестался! Да скажи хоть слово.
Но Ванюшка молча стянул с себя сапоги и, не раздеваясь, лег в постель.
На другой день он проснулся поздно. В печке трещали дрова, Агафья стучала ножом, а косоротая баба, разносившая по городу булки и сплетни, оживленно что-то рассказывала. Ванюшка, не вставая, стал прислушиваться.
– Они, видишь, девки-то, как пошли на вечерину, ворота-то, стало быть, и не заперли. Под вечерину-то у Картонихи комнату нанимали, земский-то в доме и не позволил.
– Ч-черт! – чуть не вскрикнул Ванюшка.
– Ну, стало быть, разбойнику-то это и на руку. Он наверх-то пролез, все до чистика обобрал, только, значит, барыню собрался резать, а сам-то тут как тут!
«Ишь ты, – думает Ванюшка. – Это, видно, уж после меня кто-нибудь залез!»
– Господи помилуй! – шепчет Агафья. – И какой ноне отчаянный народ пошел!
– Ну, земский его колошматил, колошматил, однако тот вырвался и убежал.
– Уж верно, их где-нибудь целая шайка, запрятавшись, была. Один не пойдет, – додумалась Агафья.
– Земский Егорку кучера и Таньку обоих вон выгнал. Ну, да ей что! Ее вчера за солдата Марковкина просватали…
Со стороны кровати послышался тихий вой.
– Это что же? – удивилась торговка.
– Ванюшка с перепою, – хладнокровно ответила Агафья.
– Разве уж так напился?
– И-и! И не видывала никогда таких пьяных. Что ни спросишь, молчит. Покойник муж, бывало, на четвереньках домой придет, а за словом в карман не полезет.
– А ты бы его керосинцем бы помазала.
– Нешто полегчает от керосину-то?
– Еще как! Старуха, Аннушкина мать, что у головихи в няньках, все керосином лечится. Не нахвалится. Как, говорит, натрусь да отхлебну маненько, так меня всю как огнем запалит. Прямо терпенья нет. Всякую боль отшибает. Ничего уж тут не почувствуешь. На Рождестве ее головиха чуть вон не выгнала за керосин-то. Потерлась это она (простудившись была) и сидит в кухне на печке. А головиха все ходит да принюхивается. Вошла в кухню, ну и поняла, в чем дело. Ругалась, ругалась! Вы меня, говорит, подлые, под кнуты подведете, я еще через вас Сибири нанюхаюсь. Упадет, говорит, на старуху спичка, ее как синь-порох взорвет. А я отвечай. Зверь – головиха-то.