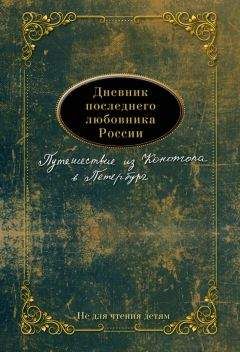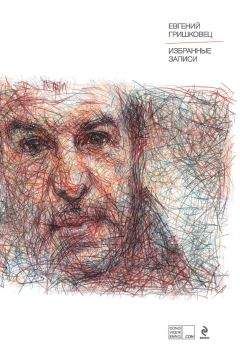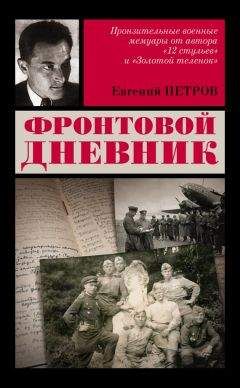– Разумеется, ведь мы благородные люди, а благородные люди стреляются, а не дают друг дружке тумаков.
– Следовательно, это не мы с тобой в пьесе?
– Не мы, – после некоторого раздумья согласился Клещев, – но Полина-то та самая!
Поняв, что толковать с тугодумом о природе вымысла нет никакого резона, я заявил, что изобразил в пьесе двух лакеев моего дяди – Ивана и Родиона и его же служанку Полину.
– Это правда? – спросил Клещев.
– Чистейшая.
– А где живет твой дядя? – все еще сомневаясь, спросил Клещев.
– В Москве. На Поварской.
– Ну, тогда хорошо, – сказал Клещев. – Тогда ладно.
Когда тугодумный прапорщик ушел, я рассмеялся, но затем, однако, призадумался – а действительно, почему я наградил персонажей пьесы такими именами? Ведь были же на то какие-то причины, чтобы эти, а не другие имена вывела в пьесе моя рука?
Я принялся размышлять, какие именно люди стали или могли стать прототипами моих героев. Что касается Ивана и Родиона, то под ними мог подразумеваться практически любой человек мужеского пола с усами – свидетельством того, что он вышел из отроческих лет. Что же до Полины, то… все-таки, наверное, не случайно я выбрал это имя для героини из сонма женских имен.
Было в нем что-то медовое, тягучее и одновременно – стремительное, резкое, как крыло ласточки, грезилась в нем некая мудрость, которую трудно даже приметить, не говоря уж о том, чтобы постичь.
В жизни своей я знавал, кроме той черненькой, увезенной в Саратов Полины, по крайней мере, еще две особы с таким именем.
У моего кузена была в усадьбе приживалка Полина, про которую он говорил: «Пышна, как лопух, и задумчива, как закат над Клязьмой». Она и в самом деле была медлительна, как растение, и потому ее имели все, кому только не лень. А приживалка этого как бы даже и не замечала. Точнее сказать – принимала как должное.
Любуется себе травками в поле, а к ней уже подбирается управляющий, засмотрится на облачка, глядь, а ручку ее уже усердно поглаживает какой-нибудь случайный гость кузена. А приживалка только улыбается от радости.
«Экая ты, Полина, ленивая», – говорили ей дворовые и видели в ответ лишь ее улыбку.
Детей у приживалки было не счесть, но она их тоже как бы даже не замечала. Все только глядит на них и улыбается. Ну, чистое растение!
Такую бабу хорошо иметь женой, но нельзя оставлять одну ни на минуту. Мало ли какое потомство принесет, а потом дели имущество со всеми встречными и поперечными.
Впрочем, в своей пьесе под именем Полины я, конечно, имел в виду не приживалку моего кузена – уж слишком та была инфантильной.
Еще одной знакомой мне Полиной была жена петербургского аптекаря. Но и эта дама вряд ли могла стать прототипом героини пьесы, поскольку с нею у меня были связаны препакостные воспоминания.
Так уж случилось, что однажды, будучи сильно навеселе, я перепутал аптекаршу с ее мужем. Все это случилось ночью, оба они были одинакового роста, оба субтильные и даже голоса имели одинаково писклявые. Накинулся я на нее со всем пылом страсти, но вдруг оказалось, что это не аптекарша, а аптекарь. Тьфу! Так что и эту Полину я не стал бы подразумевать в веселой пьесе. Других же знакомых дам по имени Полина я, как ни старался, не смог припомнить.
Так откуда же взялось это имя в пьесе – сладкое, как мед, и тяжкое, как крест, разящее, как клинок, и магнетическое, как мечта? Явилось ли оно из пены морской, подобно Афродите, или – из уха Зевса, как богиня мудрости Афина Паллада?
Незамысловатый человек Клещев, а тему поднял такую, что я всю ночь в постели ворочался.
Шла уже вторая неделя моего заточения. Несмотря на то что пребывание на гауптвахте было весьма комфортным, меня уже тяготило вынужденное безделье. Перо мое, поначалу пробовавшее себя в безобидных шутках, перебралось на сатирическую ниву. Уже ходили по городу несколько эпиграмм, и не только предводитель дворянства и прокурор сурово сдвигали брови при одном только звуке моего имени, но и многие другие местные господа возмущенно фыркали и восклицали: «Да что себе позволяет этот поручик!»
В одну из ночей, когда я сидел за столом и писал очередную эпиграмму, в дверь постучали.
– Ну, осел, заходи! – громко воскликнул я, полагая, что только ослу может прийти в голову стучать ночью в дверь арестанта.
Дверь тихонько отворилась, и я увидел на пороге супругу моего противника Елену Николаевну. Меня будто варом обожгло – уж ее-то прихода я никак не ожидал. Тем более ночью. Елена Николаевна была бледна и прижимала к своей груди корзину. Я вскочил из-за стола и быстро подошел к гостье.
– Прошу прощенья за мои слова! – сказал я, подавая ей руку. – Впрочем, уверен, что вы на меня не сердитесь – ведь вы насколько прекрасны, настолько и умны, следовательно, не могли принять эти слова на свой счет!
– Да, признаться, еще никому не приходило в голову называть меня ослом, – Елена Николаевна улыбнулась, и щечки ее заиграли. – Впрочем, другие господа, возможно, были не столь проницательны и не заметили во мне того, что увидели вы…
Тут я, разумеется, весь рассыпался в комплиментах и предложил гостье присесть к столу.
Елена Николаевна вошла в помещение, и все здесь наполнилось запахом желтых одуванчиков, голова моя закружилась. Я вновь почувствовал ту невидимую нить, что возникла между нами еще при первой нашей встрече. Вероятно, ее чувствовала и Елена Николаевна, и от того еще более смутилась.
– Поручик, вы, вероятно, удивлены моему визиту… – гостья опустила глаза. – Что ж, я хорошо вас понимаю – ведь если бы мне самой еще недавно сказали, что я приду ночью на гауптвахту к гусару, я бы сама этому ни за что не поверила. Однако ж я пришла…
– Какая бы ни была тому причина, я благодарен судьбе за счастие видеть вас! – воскликнул я, не сводя с нее восхищенных глаз.
– Дабы не ставить обоих нас в двусмысленное положенное, сразу объявлю – я здесь с одной лишь целью… я пришла поблагодарить вас… – голос гостьи зазвенел. – В ваших руках всецело была жизнь моего супруга, но вы не поддались искушению отомстить за незаслуженно нанесенную обиду… Я пришла сказать вам, что вы благородный и достойный человек… что бы ни говорили о вас другие… знайте… знайте, что я…
На глазах Елены Николаевны блеснули слезы; я поспешно вскочил, затем столь же поспешно припал на колено и поцеловал ее руку.
…А потом… Словно как-то по-другому потекло время, словно мы закружились в блистающей его воронке, скрывшей от нас и обшарпанные стены купеческого лабаза, и засаленный арестантский стол… Мы лакомились пирогами и конфектами из корзинки, принесенной милой гостьей, хохотали над моими карикатурами на общих наших знакомых и говорили, говорили, говорили…
На улице раздался стук копыт – невидимый нами всадник куда-то спешил своею дорогой.
– Мне пора, – сказала Елена Николаевна. – Было бы нехорошо, если бы меня увидели у вас.
– Да кто же сейчас может прийти сюда! – засмеялся я. – Кому интересен спящий арестант!
– Наверное, вы уже убедились, что присущие многим предрассудки мне не свойственны… – торопливо проговорила Елена Николаевна. – Тем не менее мне действительно уже пора…
– Однако вы не слышали моей последней эпиграммы…Давайте я ее прочту…
– Я знаю, что у вас острый, временами даже злой слог, но… но порой жизнь бывает еще злее… – Елена Николаевна опустила глаза. – Завтра, вернее, уже сегодня я уезжаю.
– Уезжаете? – внутри у меня все похолодело. – Куда?
– Муж подал прошение об отставке… После всего, что случилось, он понял, что ему нет места на военном поприще. Я уезжаю сегодня, а он следом, когда уладит все формальности.
– И куда же вы… – слова застревали у меня в горле.
– Сначала – в Москву, а потом – в Швейцарию. Мужу нужно лечение.
– Ну, что ж… Желаю вам счастливого пути… Надеюсь, что вашими стараниями и стараниями европейских эскулапов ваш супруг вновь обретет отменное здоровье.
– Да что такое вы говорите! – воскликнула Елена Николаевна; в ее глазах блеснули слезы.
– Желаю вам счастливого пути! – с этими словами я шагнул к ней, чтобы поцеловать на прощание руку.
Вероятно, я сделал это слишком поспешно – стол качнулся, и свеча упала. В кромешной темноте мы оба бросились поднимать ее. Мои пальцы коснулись рук гостьи. Они нашли их, как находит огонь солому.
Наша страсть была бурной.
Мы не любили, мы пожирали друг друга.
* * *
…Я лежал и блаженно смотрел вверх. На улице еще была ночь, но по потолку уже поползли предрассветные тени. Я не видел неба, но знал, что оно усыпано звездами. А все мое тело было усыпано ее поцелуями. Если бы они могли светиться, я был бы как небо.
После этой ночи я впал в хандру. Меня уже не радовали ни пирушки, которые мы продолжали устраивать с гусарами на гауптвахте, ни утехи с Авдотьей по вечерам.