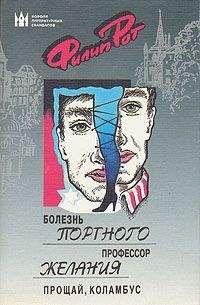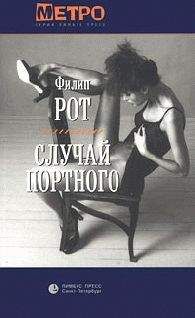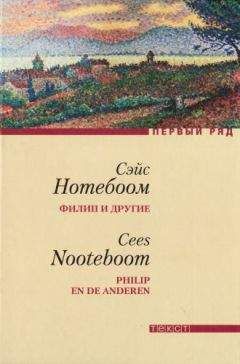В нашем коридоре висела фотография Н. Эверетта Линдбэри, президента «Бостон энд Нортистерн». Этим снимком в рамочке папу наградили, когда он продал страховок на миллион долларов, — а может, и на десять миллионов. «Мистер Линдбэри», «штаб-квартира»… В папиных устах эти слова звучали как «Рузвельт» и «Белый дом», и в то же время… о, как он их всех ненавидел, в особенности Линдбэри с его шелковистыми пшеничными волосами и живой новоанглийской речью, с сыновьями в Гарварде и дочерьми-выпускницами школы. Всю эту массачусеттскую шатию-братию, развлекающуюся охотой на лис и игрой в поло! (Именно об этом он как-то раз орал ночью в своей спальне.) Всех этих шишек, которые, понимаете ли, не дают ему стать героем в глазах собственной супруги и потомства. Какой гнев! Какая ярость! А сорвать-то злость не на ком — разве что на себе: «Почему у меня запор? Я уже набит этим черносливом под завязку! Почему у меня болит голова?! Где мои очки? Кто взял мою шляпу?!»
Подобным свирепым, самоуничтожающим способом, столь характерным для евреев его поколения, отец изгалялся над собой ради мамы, Ханны, и особенно ради меня. Идея была такова: я смогу улизнуть из той клетки, в которую попался он. Я как бы служил логическим выводом всех его усилий: моя свобода освободит и отца — от невежества, от эксплуатации и от безвестности. До сегодняшнего дня в моем воображении наши судьбы тесно переплетены, и не раз, натыкаясь в какой-нибудь книге на пассаж, производящий на меня впечатление своей логикой или мудростью, я невольно тут же вспоминаю отца: «Если бы только он мог прочесть это. Да! Прочесть и понять!..» Видите, я все еще надеюсь, все еще полагаюсь на «если бы»… И это в тридцать три года.
Помню, когда я только поступил в колледж — в те времена я вовсю боролся за то, чтобы отец наконец понял меня; мне тогда казалось, что компромисса нет: либо взаимопонимание, либо жизнь папы — так вот, только начав приобщаться к интеллектуальным журналам, обнаруженным мною в библиотеке колледжа, я решил сделать отцу подарок. Заполнил отрывной подписной купон одного из журналов на имя отца, сделав, так сказать, анонимный презент. И вот я приезжаю домой на Рождество в прекрасном настроении — и где же хоть один экземпляр «Партизан Ревью»? Вот «Кольерз», «Гигея», «Лук» — но где же «Партизан Ревью»?! Выброшен неразрезанным, — думаю я печально, но с высокомерием, — выброшен непрочитанным этим слабоумным филистером — моим отцом. Он принял его за макулатуру.
Помню еще — если уж углубляться дальше в эту историю освобождения от иллюзий — как в одно воскресное утро я играю с папой в бейсбол. Я подаю мяч и тщетно жду, как, отбитый отцом мяч взмоет ввысь, просвистев над моей головой. Мне восемь лет, в день рождения мне подарили мои первые бейсбольные рукавицы, мяч и биту, которую я еле удерживаю в руках. Папа, надев шляпу, пальто, черные штиблеты, нацепив галстук-бабочку и сунув под мышку черный гроссбух со списком должников мистера Линдбэри, с самого утра отправился по делам.
Он наносит неожиданные визиты в соседний квартал, населенный цветными, каждое воскресенье. «Потому что, — объясняет мне папа, — это лучшее время для того, чтобы отловить тех придурков, которым жалко расстаться с презренными десятью-пятнадцатью центами, составляющими еженедельный страховой взнос. Папа прячется в засаде, поджидая выходящих погреться на солнышке отцов семейств, с тем, чтобы выцарапать у них несколько медяков прежде, чем те напьются до чертиков дешевым вином «Морган Дэвис»; папа пулей вылетает из-за кустов на аллею, чтобы перехватить по дороге из церкви домой благочестивых леди, которые в будни убирают в чужих домах, а по выходным прячутся в собственных жилищах от моего отца.
— Тревога! — кричит кто-то. — Страховой агент!
И все, даже дети, разбегаются по домам. Даже дети, — говорит папа с омерзением. На что же надеются эти ниггеры? Каким образом собираются повышать свой жизненный уровень, если не в состоянии мало-мальски понять важность страхования жизни? Если не хотят оставить своим родным после смерти хотя бы одну монету? Потому что «все они» тоже умрут, понимаешь? Еще как умрут! — добавляет папа сердито. Господи, что же это за люди такие — оставлять детей под дождем без нормального зонта?!
Мы с папой стоим на земляном поле позади моей школы. Отец кладет гроссбух на землю, и прямо в пальто и коричневой федоре становится «на базу». На нем квадратные очки в металлической оправе, из-под шляпы торчит буйная копна волос, на вид и на ощупь напоминающая тонкую стальную стружку для чистки кастрюль (у меня сейчас такие же волосы); его зубы, ночь напролет улыбавшиеся в ванной комнате из стакана с водой соседу-унитазу, обнажаются теперь в улыбке, адресованной любимому, плоть от плоти и кровь от крови, маленькому сынишке, на голову которому не упадет ни одна капля дождя. «Ну-ка, Великий Бейсболист», — говорит мой папа, перехватывая новую биту где-то посередине (и, к моему изумлению, левая рука отца находится там, где должна быть правая). На меня вдруг накатывает жалость к папе: мне хочется крикнуть ему — «Эй, ты неправильно держишь биту!» — но я не в силах сделать этого, потому что боюсь расплакаться. А вдруг он расплачется? «Давай, Великий Бейсболист, бросай мяч!» — повторяет отец, и я бросаю… И конечно, вдобавок ко всем остальным разочарованиям, начинаю понимать, что мой папа отнюдь не «Кинг-Конг» Чарли Келлер.[1] Зонт, понимаете ли.
emp
Зато мама моя обладала способностью доводить все до совершенства. Ей самой приходилось признавать, что она, пожалуй, слишком хороша. Так мог ли в этом сомневаться маленький мальчик, наделенный смышленостью и наблюдательностью? Мама умела делать, к примеру, такое желе, в котором дольки персика буквально повисали, выказывая полное пренебрежение законам гравитации. Она выпекала торты, у которых был вкус банана. Обливаясь слезами, мама сама терла на терке хрен — никто на свете не заставил бы ее купить ту пищу, которую продавали закупоренной в бутылке в магазине деликатесов. Покупая мясо, мама, по ее собственному выражению, смотрела на мясника «как ястреб», чтобы самолично убедиться в том, что продавец не забудет пропустить мясо через кошерную мясорубку. Она хватала телефон и начинала названивать всем соседкам, у которых сушилось белье — однажды, когда мама пребывала в великодушном настроении, она позвонила даже разведенному гою с верхнего этажа — тревога, бегите, снимайте белье с веревок: на наш подоконник упала капля дождя! Не женщина, а локатор. Почище локатора! Сколько энергии! Какая основательность и дотошность! Она проверяла все мои задачки — не наделал ли я ошибок; носки — нет ли дырок; мои ногти, шею, каждую кожную складку моего тела — нет ли там грязи. Мама заливает мне в уши перекись водорода — чтобы в них не осталось ни грана серы. Перекись проникает в самые потаенные уголки моих ушей, пузырится и щиплется, словно уши мои полны имбирного лимонада, — и выносит на поверхность ошметки серы, которые бесспорно могут ухудшить слух человека. Такая медицинская процедура, безусловно, отнимает время; и, уж поверьте, требует немалых усилий — но если речь идет о здоровье, чистоте, микробах и выделениях, то мама не пожалеет себя и не пощадит остальных. Мама ставила свечки за упокой души усопших — другие постоянно забывали это делать, а мама благоговейно помнит обо всех датах, даже не делая заметок в календаре. Набожность у нее в крови. «Похоже, я единственный человек, — говорит мама, — кто, придя на кладбище, руководствуется здравым смыслом». «Простое уважение к приличиям» движет ею, и мама выпалывает сорняки с могил наших умерших родственников. В первый же ясный весенний день она пересыпает нафталином все шерстяные вещи, сворачивает в рулоны и упаковывает ковры и перетаскивает все это в «трофейный зал» отца. Маме не стыдно за свое жилище: любой гость может смело открыть дверцу каждого шкафа, заглянуть в ящик каждого комода — маме не придется ни за что краснеть. Вы можете смело есть с пола в ванной комнате, если вдруг возникнет такая необходимость. Когда мама проигрывает в макао, она относится к этому, как к чисто спортивной неудаче, не-то-что-некоторые-кого-она-конечно-могла-бы-перечислить-поименно-но-не-станет-называть-никого-даже-Тилли-Хохман-потому-что-это-такая-чепуха-о-которой-и-говорить-не-стоит-лучше-забудем-и-не-будем-о-ней-вспоминать. Мама шьет, мама вяжет, мама штопает. А гладит даже лучше черномазой, по-детски улыбающейся старухи-негритянки, шкуру которой поделили между собой все мамины подруги. И только мама относится к ней по-доброму. «Я — единственная, кто к ней добр. Только я даю ей на завтрак целую банку тунца. Именно тунца, а не какого-нибудь дерьма, Алекс. Жалко, что я не могу быть скупой. Извини меня, но я не могу так жить. Эстер Вассерберг нарочно оставляет по углам двадцать пять центов мелочью, когда приходит Дороти, а после ее ухода подсчитывает все деньги — не стащила ли черномазая. Может быть, я слишком добра, — говорит мне мама шепотом, ошпаривая кипятком тарелку, с которой Дороти в одиночестве, словно прокаженная, ела свой завтрак, — «но я на такое не способна». Как-то раз Дороти угораздило заглянуть в кухню как раз в тот момент, когда мама яростно отмывала нож и вилку, которые касались толстых губ черномазой. «О Дороти, если бы ты знала, как трудно в наши дни отмыть майонез с серебряных приборов», — говорит моя находчивая мама, тем самым, — как она сообщает мне позже, — разделяя чувства чернокожей женщины.