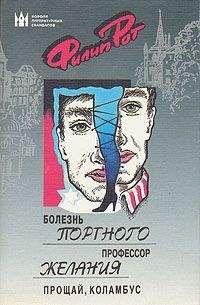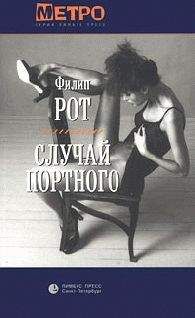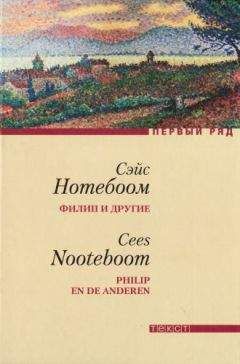Уроженец штата Нью-Джерси, выпускник Бакнеллского и Чикагского университетов, дебютировавший в 1959 году повестью «Прощай, Коламбус!» (неуловимо напоминающая чем-то незабываемую жизненную одиссею Холдена Колфилда из романа Сэлинджера, она также впервые предстает глазам отечественного читателя), а ныне — автор почти двух десятков книг, отмеченных удивительной целостностью художественного мира и столь же поразительным разнообразием образно-изобразительного инструментария, Филип Рот, судя по всему, на такую острую реакцию современников не рассчитывал. Набрасывая точными штрихами портрет своего сверстника и сочными, щедрыми мазками — групповой портрет среды, из которой тот вышел, он был всего лишь честен и объективен. И создал книгу, революционизировавшую романный жанр в современной американской прозе, по мнению одних, и — злонамеренный гротеск на родственников, друзей и близких, по мнению других.
Первые — вроде журнала «Виллидж войс», представлявшего крути леворадикальной американской интеллигенции на исходе «бурных 60-х», писавшего: «Он явил миру шедевр галлюцинативной прозы и социальной озабоченности, а также создал автобиографию Америки», — пророчили Филипу Роту славу первого литератора США (и, заметим, позже его действительно удостоили членства в Национальном Институте Искусств и Словесности — своего рода литературной академии Америки), вторые — громогласно заявляли, что он опозорил все еврейское население огромной заокеанской страны, снабдив оружием инициаторов хулиганских антисемитских выходок, и настоятельно рекомендовали ему сменить место жительства. Что, скажем в скобках, Филип Рот и сделал, надолго переселившись в Лондон.
Зададимся вопросом: чем же молодой, подающий надежды писатель навлек на себя такие страсти? И чем не угодило ему вполне типичное для выходца из мелкобуржуазной еврейской семьи окружение, что он наделил его такими гротескно-сатирическими чертами?
Сегодня, с дистанции четверти века, убеждаешься: сынам и дщерям Израилевым, нашедшим долговременный приют и тем более появившимся на свет в США, чрезмерных резонов обижаться на Филипа Рота не было. (Скорее напротив: следовало читать и перечитывать его романы внимательно, делая для себя экзистенциальные, если уж не житейские, выводы.) Обижаться и оскорбляться, по большому счету, надо было… Америке. Ибо и впрямь то и дело обретающее фарсово-бурлескную окраску жизнетечение главного героя «Болезни Портного», с его болезненно острым ощущением замкнутости существования в семейном и имущественном кругу, изначальной предписанностью и расписанностью по клеточкам будущего, вплоть до гробовой доски, жизненного удела, сосредоточенностью на мелких и мелочных страстях и страстишках, на поверку оказалось ничем иным, нежели одним из ликов поработившего массовое сознание Америки банального буржуазного конформизма. А что, как не этот конформизм, становилось объектом бескомпромиссного неприятия Сэлинджера и его автобиографического героя, апокалипсической сатиры Курта Воннегута, язвительного гротеска Джозефа Хеллера в романах «Что-то случилось» и «Чистое золото», наконец Джона Апдайка, в те же годы начавшего свою монументальную тетралогию о «Кролике» Гарри Энгстроме?
Проще говоря, истоки, беды были чисто американскими; еврейским указывалось лишь ее внешнее обличие. Но и это обличие не могло, разумеется, не внести соответствующих корректив в кривую парадоксальных судеб героев Филипа Рота и творческой судьбы их создателя. Неисчислимые фобии и табу, в известной мере обусловленные трагически сложившимся уделом народа, на долю которого в XX столетии выпал Холокауст, еврейские погромы в Восточной Европе, ГУЛАГ в необозримой сталинской империи, амбивалентное сознание богоизбранности и вытекающие из него «комплексы» национальной исключительности (в частности, в интеллектуальной, моральной, духовной областях), — все это надолго определило парадоксальное, трагикомическое мироощущение персонажей произведений писателя, какие бы имена они ни носили: Алекс в «Болезни Портного», Кепеш в «Профессоре желания» (1977), Тарновски в «Моей мужской жизни» (1974), Цукерман в «Уроке анатомии» (1983)…
Секс, быть может, та сфера жизнепроявления, где эти атавистические страхи и павловские «условные рефлексы» обозначают себя наиболее явно. И, приходится признать, у критиков, возводивших Рота в ранг основоположников «комического эпоса» эротического бытия соотечественников, были на то немалые основания: тут барочная щедрость его таланта проявила себя в полной мере. Однако перелистываешь эти, вызывающие то смех до колик, то болезненную дрожь страницы его книг — и вспоминаешь аналогичные страницы в романах Дж. Хеллера, Дж. Апдайка и, быть может, самого яркого из представителей этой плеяды литераторов в США — Генри Миллера. Что поделать: еще за двадцатилетие до рождения Филипа Рота секс стал объектом поистине общенациональной одержимости в США и, что неудивительно, вечным полем экспериментаторства для лучших американских писателей. Так что и тут, в этой причудливейшей и наименее предсказуемой из сфер человеческого поведения, еврейское оказывается оболочкой, частностью, а общеамериканское — закономерностью. (Раскройте, к примеру, пародийно-эпатажный короткий роман Ф. Рота «Грудь» (1972),[8] вышедший у нас на гребне перестроечной либерализации законов о печати и средствах массовой информации, — и вы без труда в этом убедитесь.)
Веселые, а чаще грустные эскапады персонажей Филипа Рота, думается, способны навести сегодня скорее на серьезные, нежели приятно-легкомысленные, раздумья. Они, если отвлечься от непосредственно событийной канвы, не что иное, как призыв к современникам трезво и без иллюзий оценить собственное место в действительности.
Опыт истории доказывает, что в жизни все повторяется, однако в самой повторяемости действуют неписаные — и никем пока не сформулированные — законы изменчивости. Благонамеренные родители Алекса прочили ему судьбу если не великого Альберта Эйнштейна, то, по крайней мере, доктора Киссинджера. А в прижизненном уделе вызвавшего этого героя к жизни Филипа Рота явственно отразились определенные черты творческой эволюции другого писателя — Франца Кафки. Но отразились, к счастью, без роковой ноты неотвратимой предрешенности, без мучительного безвременного конца… Так что хоть в чем-то, похоже, конец XX века оказался лучше его начала.
Есть о чем задуматься и нам. Задуматься в пору, когда в итоге очередного кульбита международной истории тысячам этнических россиян (звучит-то как! язык с трудом поворачивается) угрожает участь стать первым, после евреев, народом без прочного прибежища; задуматься, когда тысячи наших соотечественников, с отчаянья уверовав в миф по имени «Американская Мечта», всеми правдами и неправдами стремятся выкроить для себя крохотное местечко под солнцем за океаном. Снимаясь с места — а тем более в очередной раз обживая родные места, — особенно важно отдать себе отчет в том, кто мы, ради чего живем и чего добиваемся. И не в последнюю очередь: что нам мешает жить по-человечески. На этот вопрос, думается, может, в числе других, ответить творчество американца Филипа Рота.
Одним словом, не вредно вспомнить мудрый завет Декарта: «Попытаемся же логично мыслить — вот основа нравственности».
НИКОЛАЙ ПАЛЬЦЕВ
Знаменитый американский бейсболист.
Главный герой знаменитого рассказа Ф. Кафки «Превращение».
Университетский колледж Лос-Анджелеса.
Перевод А. Парина.
Все! (итал.).
Перифраз псалма 136.
Это я (фр.).
Роман Ф. Рота «Грудь» в русском переводе вышел в издательстве «Полина» в 1993 году.