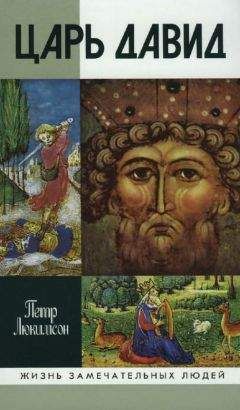Ознакомительная версия.
Я во дворце всем надоел своими просьбами, – и это понимаю, потому что и без меня много раздают великие князья, великие княгини и в особенности императрица. Одного князя Александра Николаевича Голицына я не боюсь просить: этот даже радуется, когда придешь просить; потому я в Царском Селе и таскаюсь к нему каждое утро.
* * *
К празднику Светлого Христова Воскресения лицам, находящимся на службе, обыкновенно раздавали чины, ленты, награды. Поэтому в это время обычно происходил оживленный обмен поздравлениями. Кто-то из подобных поздравителей раз пришел к Жуковскому во дворец и говорит ему:
– Нельзя ли поздравить и ваше превосходительство?
– Как же, – отвечал поэт, – очень даже можно. А с чем именно, позвольте спросить?
– Да с днем святой Пасхи.
* * *
Умирая, Жуковский позвал свою дочь и сказал: «Поди, скажи матери: я теперь нахожусь в ковчеге и высылаю первого голубя – это моя вера, а другой голубь мой – это терпение».
Когда Карамзин был назначен историографом, он отправился к кому-то с визитом и сказал слуге:
– Если меня не примут, то запиши меня.
Когда слуга возвратился и сказал, что хозяина дома нет, Карамзин спросил его:
– А записал ли ты меня?
– Записал.
– Что же ты записал?
– Карамзин, граф истории.
* * *
Успех Карамзина на литературном поприще приобрел ему много завистников и врагов, злоба которых выражалась в довольно-таки тупых эпиграммах. Кто-то, например, сочинил, после появления статьи «Мои безделки», следующую эпиграмму.
Собрав свои творенья мелки,
Француз из русских написал
«Мои безделки».
А уж, прочтя, сказал:
Немного лживо,
Лишь надпись справедлива.
Так как эта эпиграмма приписывалась Шатрову, то Дмитриев, друг Карамзина, ответил:
Коль разум чтить должны мы в образе Шатрова —
Нас Боже упаси от разума такого.
Прогуливаясь по галерее Гостиного двора, Иван Андреевич Крылов нередко заходил в проходе к Лукьянычу отведать его пирогов, которые всегда действительно были хороши. Как-то дедушке Крылову они не понравились.
– Что это, Лукьяныч, у тебя пироги все хуже да хуже становятся… Ведь я бы и сам их лучше изготовил…
– Ах, Иван Андреевич, – ухмыльнулся ядовитый ярославец, – где уж вам… Ведь вы сами только что писали: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник».
Иван Андреевич добродушно рассмеялся и больше не делал Лукьянычу замечаний, а в минуты оплошности хватался за голову и говорил:
– Ах, я сапожник!
* * *
Графиня С.В.Строганова однажды спросила баснописца Ивана Андреевича Крылова, почему он не пишет более басен?
– Потому, – отвечал Крылов, – что я более люблю, чтобы меня упрекали, для чего я не пишу, нежели дописаться до того, чтобы спросили, зачем я пишу.
* * *
Однажды один из приятелей заметил Крылову:
– Иван Андреевич! Басня очень хороша, но где же видано, чтобы лисица виноград ела?
Крылов, со свойственным ему добродушием, ответил:
Я, батюшка, и сам не верил, да вот Лафонтен убедил.
* * *
Крылов в домашнем быту и в обществе был необыкновенно радушен и разговорчив, но, вместе с тем, до крайности скрытен. Он многое хвалил из учтивости, чтобы никого не огорчить, хотя в глубине души своей иного и не одобрял. Один из писателей в предисловии к весьма посредственному своему сочинению напечатал похвалы, слышанные им от Крылова.
– Вот вам конфекта за неосторожные ваши похвалы, – сказал баснописцу Гнедич.
Но Крылов только посмеялся и всю жизнь продолжал следовать постоянной своей системе.
* * *
Желудок у Крылова был поистине богатырский. Однажды он приказал приготовить к своему обеду жаренных в масле пирожков. Съел целый десяток и потом спохватился, что в них был какой-то странный вкус, да и цвет необыкновенный. Крылов крикнул кухарку, но она за чем-то отлучилась в лавочку. Он пошел сам на кухню. Видит, на очаге стоит кастрюля, нечищеная и нелуженая с незапамятных времен, заглянул в нее: зеленые пирожки, то есть покрытые зеленою ярью, плавают в зеленом же масле. Посмотрел-посмотрел, и им овладело искушение – пирожков еще оставалось шесть штук. «Да что, – решил он, – ведь это ничего: съел же я десяток, а шесть куда ни шло!» – да и спровадил их в свой молодецкий желудок.
Слыша жалобы молодых людей на слабость желудка, он, улыбаясь, говорил:
– А я так, бывало, не давал ему спуску. Если чуть он задурит, то я и наемся вдвое, – там он себе как хочешь разделывайся.
* * *
Иногда рассеянность его доходила до того, что он клал в свой карман, вместо носового платка, все, что ни попадалось в руки, свое или чужое. За обедом сморкался он иногда то в чулок, то в чепчик, которые вытаскивал из своего кармана. Перчаток он никогда не носил, ни зимою, ни летом, считая их бесполезною роскошью: «Я вечно их теряю, – говорил он, – да и руки у меня не зябнут».
* * *
Однажды Крылов ел в биржевой лавке устрицы и, по окончании завтрака, хотел расплатиться, но не нашел кошелька, который забыл дома.
– Ну, мой милый, – сказал он половому, – со мною случилась беда: я не взял с собою денег, – как быть?
– Ничего, сударь, ничего, не извольте беспокоиться, – мы подождем.
– Да разве ты знаешь меня?
– Да как не знать вас, батюшка, Иван Андреевич, вас весь свет знает.
* * *
Гнедич, сослуживец, вседневный собеседник и добрый товарищ Крылова, оставив службу, получил по особому назначению государя 6000 рублей пенсии. Вдруг Крылов перестал ходить к нему и, встречаясь в обществе, не говорил с ним. Гнедич, да и все видевшие эту внезапную перемену в Крылове, не постигали, что бы это значило. Так прошло около двух недель. Наконец, образумившись, Крылов приходит к Гнедичу с повинной головой.
– Николай Иванович! Прости меня!
– В чем, Иван Андреевич? Я вижу только холодность и не постигаю тому причины.
– Так пожалей же обо мне, почтенный друг! Я позавидовал твоей пенсии и позавидовал твоему счастию, которого ты совершенно достоин. В мою душу ворвалось такое чувство, которым я гнушаюсь.
Гнедич кинулся к нему на шею, и в ту же минуту все прошлое было забыто.
* * *
Однажды в обществе, где находился и Крылов, говорили о богатстве А. И. Яковлева, имевшего более шести миллионов годового дохода.
– Это уж чересчур много, – сказал Крылов, – все равно, если б я имел для себя одеяло с лишком в 30 аршин[22].
* * *
У Крылова над диваном, где он обыкновенно сидел, висела, сорвавшись с одного гвоздика, наискось по стене, большая картина в тяжелой раме. Кто-то заметил ему, что гвоздь, на котором она еще держалась, непрочен и что картина когда-нибудь может упасть и убить его.
– Нет, – отвечал Крылов, – угол рамы должен будет в таком случае непременно описать косвенную линию и минует мою голову.
* * *
По совету докторов Крылов ежедневно гулял. В дождливое и ненастное время он избирал для прогулок второй ярус Гостиного двора, который обходил несколько раз. В то время сидельцы обыкновенно самым назойливым образом зазывали прохожих в свои лавки. Однажды они жестоко атаковали Крылова.
– У нас самые лучшие меха! Пожалуйте! Пожалуйте! – и почти насильно затащили его. Он решил их проучить и сказал:
– Ну, покажите же, что у вас хорошего?
Сидельцы натаскали ему разных мехов. Он развертывал, разглядывал их и говорил:
– Хороши, хороши, – а есть ли еще лучше?
Притащили еще.
– Хороши и эти, да нет ли еще получше?
Еще разостлали перед ним множество мехов.
Таким образом он перерыл всю лавку.
– Ну, благодарю вас, – сказал он наконец, – у вас много прекрасных вещей! Прощайте!
– Как, сударь? Да разве вам не угодно купить?
– Нет, мои друзья, мне ничего не надобно; я прохаживаюсь здесь для здоровья, и вы насильно затащили меня в вашу лавку.
Не успел он выйти из этой лавки, как сидельцы следующей подхватили его:
– У нас самые лучшие товары, пожалуйте-с! – и втащили его в свою лавку.
Крылов таким же образом перерыл весь их товар, похвалил его, поблагодарил торговцев за показ и вышел. Сидельцы следующих лавок, перешептываясь между собой и улыбаясь, дали ему свободный проход. С тех пор Крылов спокойно и свободно прогуливался по Гостиному двору и только отвечал на учтивые поклоны и веселые улыбки своих знакомых сидельцев.
* * *
Раз, в смежном с квартирой Крылова доме случился пожар. Люди Крылова, сообщив ему об этом, бросились спасать разные вещи и неотступно просили, чтобы он поспешил собрать свои бумаги и ценные предметы. Но он, не обращая внимания на просьбы, крики и суматоху, не одевался, приказал подать себе чай и, выпив его не торопясь, еще закурил сигару. Кончив все это, он начал медленно одеваться; потом, выйдя на улицу, поглядел на горевшее здание и, сказав: «Не для чего паниковать», возвратился на свою квартиру и улегся преспокойно на диван.
Ознакомительная версия.