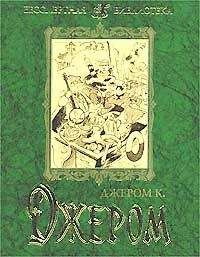Помню, как однажды одна дама настойчиво звала меня к себе на «вечер». Я встречался с этой дамой в доме ее родственников, но так мало знал ее даже в лицо, что, встреться с ней на улице, я мог бы пройти мимо нее не поклонившись. Поехал я к ней, но не попал. Хотя она и имела большой дом на Лейчестер-гейт, но, как потом оказалось, извозчик подвез меня к дому напротив, где тоже был званый вечер и где главою дома была тоже дама. Туда я и попал.
Впрочем, никаких неприятных осложнений из-за этой ошибки не вышло. Хозяйка встретила меня радушным возгласом, поблагодарила за любезность и тут же познакомила с каким-то важным колониальным администратором, который, как она успела шепнуть мне, чуть не нарочно приехал к этому вечеру из своей заморской резиденции, чтобы иметь удовольствие познакомиться со мной. Имени его я не разобрал, как и он моего; но это нисколько не помешало нам тотчас же вступить в оживленную беседу об одном из тех безразличных предметов, о которых вообще принято говорить в обществе.
Сначала я не понял, что попал в чужой дом. Хозяйка по одежде и всем другим внешним атрибутам была такая же, как та, которая меня пригласила, а лицо последней, как я уже говорил, было для меня лишь одним из многих дамских лиц, которые приходилось видеть. Только в течение вечера я понял свою ошибку. Но так как она, в сущности, не имела никакого значения, то я и не нашел нужным исправить ее, а спокойно поужинал вместе с другими в этом доме и вообще проделал все, что делали другие.
В следующий же вечер дама, у которой я накануне был в гостях, увидела меня в другом доме, подошла ко мне и самым сердечным образом вновь поблагодарила меня за то, что я пожертвовал предыдущим вечером ради нее и ее друзей. Она знает, как редко я бываю у людей, не имеющих чести принадлежать к тесному кружку моих ближайших знакомых, поэтому еще больше ценит мою любезность. Кстати, она сообщила мне, что супруга бразильского министра была в восторге от меня и говорила, что никогда не встречала такого умного и просвещенного человека.
Но представим себе, что лакей не переврал моего имени и что хозяйка действительно знает меня, хотя бы только по слухам. Она показывает мне свою очаровательнейшую улыбку и искреннейшим голосом уверяет, что страшно боялась, как бы я не забыл о ее приглашении и как бы ее вечер не лишился своего лучшего украшения. Все остальные гости, по ее дальнейшим словам, хотя тоже очень почтенные люди, но в ее глазах я один перевешиваю все их достоинства.
Я также улыбаюсь и внутренне очень интересуюсь знать, как я выгляжу при этой улыбке. К сожалению, я никогда не мог решиться взглянуть на себя в зеркало в то время, когда улыбаюсь по обязанности. Должно быть, меня смущает то, что я не раз наблюдал лица других людей, вымучивающих из себя такую улыбку. Итак, улыбнувшись, я спешу уверить хозяйку, что ее любезного приглашения я не мог забыть ни при каких обстоятельствах и что ждал этого вечера с величайшим нетерпением.
Не зная, что еще сказать, я выражаю восхищение удивительно приятным вечером. Хозяйка снова дарит меня улыбкой, но такого сорта, точно хочет показать, что отлично понимает всю глубину моего остроумия, вложенного в эту банальную фразу, и я, видя, что к моей собеседнице подходят другие, поспешно ретируюсь, краснея от стыда за себя. Казаться идиотом, когда действительно родился идиотом, не обидно, но разыгрывать из себя идиота, когда имеешь полное право не чувствовать себя таковым, слишком уж обидно.
Смешиваясь с толпою гостей и отыскивая какой-нибудь укромный уголок, где мог бы спрятаться со своим стыдом, я наталкиваюсь на даму, которой где-то когда-то был представлен. Мы не знаем даже имен друг друга, но так как и она страдает от внутреннего одиночества в этой толпе, то вступает в беседу. Если эта дама обыкновенного уровня, то она непременно спросит меня, бываю ли я в таком-то доме или в таком-то театре. Я отвечаю «нет» или «да», смотря по обстоятельствам или по настроению. Потом молча глядим друг на друга, подыскивая в уме, что бы сказать еще. Наконец она спрашивает, был ли я в такой-то день на вечере у Томпсонов, праздновавших рождение главы дома. Я опять отвечаю, что был или не был, и в свою очередь участливо осведомляюсь, будет ли она в такой-то день у Браунов. Браунов в городе такое множество, что без более подробного определения трудно узнать, о каких именно Браунах идет речь. Дама отвечает, что еще не решила этого вопроса, и, видимо, задумывается, каких Браунов я имею в виду. Но спрашивать об этом она не решается. Потом я выражаю желание узнать, посещает ли она цирк Барнума. Она радует меня ответом, что до сих пор ни разу еще не была в этом цирке, но на днях собирается. Это дает мне возможность высказать свое мнение об этом цирке — мнение, которое можно услышать от каждого, имевшего удовольствие хоть раз побывать там.
Могло случиться и так, что моя новая собеседница — дама бойкого ума и темперамента. Тогда она засыплет меня целым фейерверком ядовито-острых замечаний относительно проходящих мимо нас или сидящих в районе нашего зрения лиц; кстати прихватит и других, не находящихся на этом вечере. Слушая ее, я думаю о том, как похожа эта дама на бутылку уксуса, в которую положено несколько сотен булавок. На мое счастье, минут через десять словесный фейерверк моей собеседницы иссякает и она отходит от меня с милостивым кивком головы.
Если и удается иногда встретить на таких собраниях человека по себе, то все равно нельзя поговорить с ним по душе: этому мешают и время и место. Вести же с такими людьми обычные пустые разговоры вроде вышеприведенных не повертывается язык.
Однажды в обществе зашел разговор о Теннисоне как о литературном корифее, и один из присутствующих, представлявший собою тупицу чистейшей воды, очень долго и тягуче описывал, как ему пришлось на одном обеде сидеть рядом с Теннисоном, который оказался очень плохим собеседником.
— И неудивительно, — с ироничным смехом заключил мизантроп, — с таким соседом, каков был для Теннисона рассказчик, само воплощение остроумия должно было умолкнуть.
Я и сам не понимаю, почему люди так любят устраивать большие и совершенно бесцельные собрания, которые ровно никому ничего не доставляют, кроме всякого рода неудобств; с последними же можно мириться только ради дела, а не безделья.
Помню, как однажды я прокладывал себе путь к одному модному ресторану на Беркли-сквер. В нескольких шагах от меня с таким же трудом протискивалась сквозь толпу дама, вся красная и в поту от усилий добраться до вожделенной цели. За нею следовал мужчина.
Когда они очутились наконец у стола и уселись, дама обратилась к своему спутнику с замечанием:
— Скажи, пожалуйста, для чего мы являемся сюда? Неужели только для того, чтобы брать с боя места за столом с целью пообедать? Но ведь это с гораздо большим удобством мы могли бы сделать дома.
— Мы являемся сюда для того, чтобы иметь право сказать, что были здесь, — не допускавшим возражения тоном ответил спутник, бывший, по всей видимости, мужем этой дамы.
В другой раз я встретил приятеля А. и пригласил его отобедать у меня в следующий понедельник. Это я делаю обязательно раз в месяц, хотя и сам не знаю для чего, потому что А. человек в высшей степени неинтересный.
— К сожалению, я не могу быть у вас в понедельник, — ответил он мне в этот раз. — Отозван к Б. Очень неприятно. Скука у них страшная. Но ничего не поделаешь — исполнение общественной обязанности.
Немного спустя встречаюсь с мистером Б. С первых же слов он приглашает меня к себе на обед, тоже в понедельник.
— К сожалению, никак не могу, — отвечаю я, — у самого маленький вечерок. По обязанности — ничего не поделаешь.
— Жаль, — говорит Б., делая по возможности сокрушенную физиономию. — Без вас решительно не с кем будет живым словечком перекинуться. Будут, между прочим, и А. с женой. Они оба на один лад и каждый раз наводят смертную скуку.
— Зачем же вы их приглашаете? — спрашиваю я.
— По совести сказать, и сам не знаю, — получил я в ответ.
Но вернемся к нашим грачам. Должно быть, и они большие любители так называемой общественности. Часть их — кажется, холостяки — устроили себе настоящий клуб. Месяц тому назад, когда грачи только что поселились по соседству со мною, я никак не мог понять, в чем дело, и лишь после долгих наблюдений сообразил, что это их клуб.
Этот клуб устроен ими как раз на той части дерева, которая приходится совсем близко к окну моей спальни. Устройство клуба произошло, очевидно, по моей же собственной вине. Дело в том, что месяца два назад одинокий грач, страдавший либо от несварения желудка, либо от несчастливого супружества, выбрал это дерево как спокойное убежище, где он без стеснения мог бы предаваться горьким жалобам. Однажды он разбудил меня среди ночи громкими стонами. Я вскочил с постели, схватил бутылку из-под содовой воды и швырнул ее из открытого окна в дерево. Разумеется, мое импровизированное метательное орудие не попало в цель. Грач остался на месте и продолжал хлопать крыльями и скандалить. Не имея под рукою другого мало-мальски подходящего предмета, который мог бы бросить, я вздумал прогнать грача громкими криками. Но он не обратил ни малейшего внимания и заскандалил пуще прежнего. Я повторил свои грозные крики, сопровождая их отчаянным хлопаньем в ладоши. Проснулась моя собака и принялась яростно лаять. Этим путем сначала были разбужены мои домашние, а потом и все соседи на четверть мили кругом. С трудом успокоив собаку, я пробился около двух часов, чтобы отделаться от беспокойного грача, но добился только того, что самого себя довел до полного истощения сил, а грача так и не угомонил. Зато после этих упражнений я заснул как мертвый.