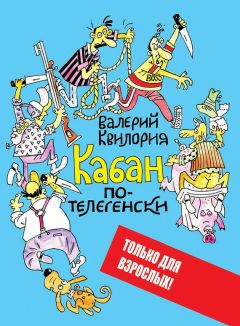– Жара нынешним летом адова, – начал он.
– Точно, – сходу влез Петрович, пока Эдик задумчиво чесал затылок. – Жарковато. Кабанчика надо бы в холодильник. Не выдержит до утра.
– Постой, Петрович, я не о том, – нахмурился Пантелеймон и недвусмысленно показал глазами на деда, который внезапно стал усердно сморкаться в подол рубахи. – Я говорю, сгорит урожай. На зиму ни хрена не запасешь.
Петрович, умно глядя соседу в глаза, молча кивнул, мол, полный «понимайт». Эдик оторвался от подола, еще раз почесал в затылке и открыл, было, рот.
– Точно, – в самый последний момент всунулся Петрович. – Попалит все. И в погребе пусто, и с деньгами прокол. Если так и дальше пойдет, то труба рулю. Может, и мне кабанчика шандарахнуть?
– Тьфу ты! – совсем расстроился Пантелеймон.
– Нам в гараже третий месяц зарплату не дают, – как ни в чем не бывало разглагольствовал сосед.
– Однако! – вдруг весело воскликнул дед. – А нам с бабой пенсию аккурат на две недели задерживают. Ни на грамм больше.
– Слава райсобесу, – подмигнул Петрович, поднимая стопку.
– Слава Богу, – не согласился дед.
– Аминь, – поставил точку Димка.
Выпили. Дед Эдик пристукнул о стол пустой посудой и с явным удовольствием перекрестился.
– Хорошо пошла, – рассмеялся Петрович. – Поехали по новой.
Пока он скрупулезно цедил граммы, дядя ударился в рассуждения.
– Нет, ребятки, – говорил он, – жизнь прекрасна. А если б не та лысая оогония[1], то никакой бы оогамии[2] у нас в помине не было…
Учитель ботаники продолжил речь, перемежая знакомые слова многочисленными научными терминами. Поэтому никто ничего не понял, но общее направление мысли уловили и дружно закивали, мол, так оно и есть. Все, кроме Толика, который, ввиду младых лет, попытался выяснить точный смысл сказанного.
– Учись, сынок, – только и сказал захмелевший папа Пантелеймон.
– Точно, подхватил Петрович, – а то пропадешь. Со мной, помню, на флоте было, на субмарине…
– Однако, – бесцеремонно перебил его разогретый спиртом Эдик и доверительно сообщил Толику: – Они тебе тут наговорят и про ого-какую самогонию, и про эту вот самую бля-марину. Спецы, одно слово!
– Ну, ты, дед, и дроссель, – обиделся Петрович под общее веселье.
– Суб-ма-ри-на, – повторил он по слогам, – это боевая подводная лодка.
– Ну, натурально, – обрадовался старик. – Значит, верно сказал. Она, как моя баба, вдарит по бортам и вглубь окиянскую, чтобы сдачи не считать.
– Эх, – подхватился он, словно в атаку собрался. – А давай-ка еще по одной и расскажу я вам, какая у нас с этим хряком ого-погония вышла!
Все торопливо выпили и не менее скоро закусили.
– Ну, вот, – начал дед, вытерев усы ладонью, – с вечера съел я чего-то не того, ну и прихватило к обеду. Как крылья выросли. Лечу к своему ватерклозету и чую – не долечу. Эх, мать моя Прасковья! Не пропадать же на старости лет. Тут же за хлевом и приземлился. Сижу так вот, переживаю. А тут шум-гвалт в огороде. Я, значит, вставать, – говоря это, дед резво соскочил с лавки и составил ноги на манер колеса. – Только нагнулся за штанами, глядь – несется на меня чудище непонятное, и несется, точно твоя, Петрович, боевая марина. Вижу, не успеваю штаны надеть. Я тогда влево, и он, зараза, влево. Я вправо, а там хлев. Вот он мне, сволочь, меж ног и сунулся. Слышу – на воздух поднимаюсь. Руками лап-лап – хоть за тень свою хватайся – сплошное воздушное пространство. Ка-ак хряпнулся челюстью о спину этого поганца, чуть протез зубной не проглотил. Глаза на лоб – и дай, Боженька, удержаться. Ну, а потом мы с ним и помчались вдоль по Питерской…
Окончив рассказ, Эдик разом угас и сделался еще более одиноким и грустным. Об остальных же сказать стыдно – беседку сотрясал безумный хохот.
Понемногу страсти улеглись. Дед выпил на посошок, сплюнул и, не прощаясь, покинул застолье, уйдя по торному кабаньему пути, то есть прямиком через огороды.
– И самогонка ваша, и вы сами…, – только и долетело из непроницаемой темноты.
– Мо, – по-телячьи кротко возразил Пантелеймон и, окончательно обессилев, лег щекой на край тарелки.
Толик вместе с подоспевшей тетей Надей увели его в дом. В беседке остались двое.
– А ты ничего, – одобрил Петрович, звонко закусывая огурцом очередной стаканчик. – Умеешь пить.
– Умею, – согласился Димка и, как сглазил его Петрович, тотчас заскользил с лавки на пол.
Он недоуменно таращился и пытался изменить ход событий, но, увы, был не в силах преодолеть земное притяжение. Это походило на скоростное погружение подлодки, наблюдаемое через перископ. Стол накатил темной волной, мелькнули быстрыми струями его четыре ножки, и Димка мягко сел на грунт. Затем все – пропала картинка, отключился звук…
…Припомнив вчерашний день и то, что сегодня воскресенье и надо ехать на базар – продавать свеженину, Димка схватился за болезненную свою голову: – Вот это замочили кабана, так замочили!
Оогоний (от греч. оon – яйцо и gane – рождение) – в ботанике женский половой орган многих водорослей и некоторых низших грибов.
Оогамия (от греч. оon – яйцо и gamos – брак) – тип полового процесса у многоклеточных животных, многих низших и всех высших растений.