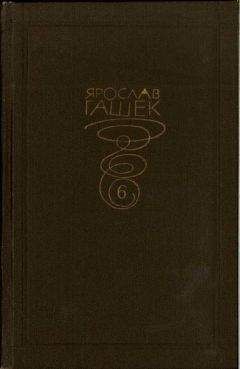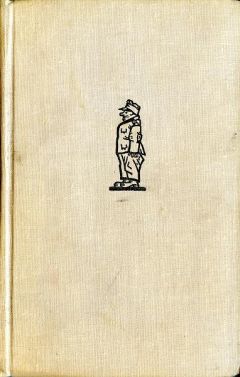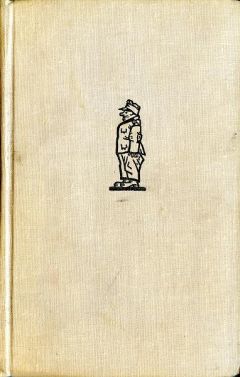Поезд подошел к станции Табор, и Швейк, прежде чем в сопровождении кондуктора сойти с поезда, доложил, как полагается, поручику Лукашу:
— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, меня ведут к господину начальнику станции.
Поручик Лукаш не ответил. Им овладела полная апатия.
«Плевать мне на все, — блеснуло у него в голове, — и на Швейка, и на лысого генерал-майора. Сидеть спокойно, в Будейовицах сойти с поезда, явиться в казармы и отправиться на фронт с первой же маршевой ротой. На фронте подставить лоб под вражескую пулю и уйти из этого жалкого мира, по которому шляется такая сволочь, как Швейк».
Когда поезд тронулся, поручик Лукаш выглянул в окно и увидел на перроне Швейка, увлеченного серьезным разговором с начальником станции. Швейк был окружен толпой, в которой можно было заметить формы железнодорожников.
Поручик Лукаш вздохнул. Но это не был вздох сожаления. Когда он увидел, что Швейк остался на перроне, у него стало легко на душе. Даже лысый генерал-майор уже не казался ему таким противным чудовищем.
Поезд давно уже пыхтел по направлению к Чешским Будейовицам, а на перроне таборского вокзала толпа вокруг Швейка все не убывала.
Швейк доказывал свою невиновность и настолько убедил толпу, что какая-то дама даже сказала:
— Опять к солдатику придираются.
Публика согласилась с этим мнением, а один господин обратился к начальнику станции, заявив, что заплатит за Швейка двадцать крон штрафу. Он убежден, что этот солдат невиновен.
— Вы только посмотрите на него, — показывал он на невинное выражение лица Швейка, казалось, говорившее: «Люди добрые, я не виноват!»
Затем появился жандарм, вывел из толпы какого-то гражданина, арестовал его и увел со словами: «Вы за это ответите! Я вам покажу, как народ подстрекать! Я покажу, как «нельзя требовать от солдат победы Австрии, когда с ними так обращаются».
Несчастный гражданин не нашел других оправданий, кроме откровенного признания, что он мясник у Старой башни и вовсе «не то хотел сказать».
Между тем добрый господин, который верил в невиновность Швейка, заплатил за него в канцелярии станции штраф, повел Швейка в буфет третьего класса, угостил его там пивом и, выяснив, что все удостоверения и воинский железнодорожный билет Швейка находятся у поручика Лукаша, великодушно дал ему пять крон на билет и на другие расходы.
При расставании он доверительно сказал Швейку:
— Если попадете, солдатик, к русским в плен, кланяйтесь от меня пивовару Земану в Здолбунове. Вот вам моя фамилия. Будьте благоразумны и долго на фронте не задерживайтесь.
— Будьте покойны, — ответил Швейк, — всякому занятно посмотреть чужие края, да еще задаром.
Швейк остался один за столиком и помаленьку пропивал пятерку, полученную от благодетеля.
А в это время на перроне те, кто не присутствовал при разговоре Швейка с начальником станции, а только издали видел толпу, рассказывали, что поймали шпиона, который фотографировал вокзал. Однако это опровергала одна дама, утверждавшая, что никакого шпиона не было, а просто, как она слышала, один драгун возле дамской уборной зарубил офицера, потому как тот ломился туда за возлюбленной драгуна, провожавшей своего милого.
Этим фантастическим версиям, характеризующим нервозность военного времени, положили конец жандармы, которые очистили перрон от посторонних.
А Швейк продолжал пить, с нежностью думая о своем поручике: «Что-то он будет делать, когда приедет в Чешске Будейовице и во всем поезде не найдет своего денщика?»
Перед приходом пассажирского поезда ресторан третьего класса наполнился солдатами и штатскими. Преобладали солдаты различных полков, родов оружия и национальностей. Всех их занесло ураганом войны в таборские лазареты, и теперь они снова уезжали на фронт. Ехали за новыми ранениями, увечьями и болезнями, ехали, чтобы заработать себе где-нибудь на тоскливых равнинах восточной Галиции простой деревянный намогильный крест, на котором еще много лет спустя на ветру и дожде будет трепетать вылинявшая военная австрийская фуражка с заржавевшей кокардой. Изредка на фуражку сядет печальный старый ворон и вспомнит о сытых пиршествах минувших дней, когда здесь для него всегда был накрыт стол с аппетитными человеческими трупами и конской падалью; вспомнит, что под фуражкой, как та, на которой он сидит, были самые лакомые кусочки — человеческие глаза…
Один из кандидатов на крестные муки, выписанный после операции из лазарета, в грязном мундире со следами ила и крови, подсел к Швейку. Это был хилый, исхудавший грустный солдат. Положив на стол маленький узелок, он вынул истрепанный кошелек и стал пересчитывать деньги. Потом взглянул на Швейка и спросил:
— Magyarul?[2]
— Я чех, товарищ, — ответил Швейк. — Хочешь выпить?
— Nem tudom, barátom[3].
— Это, товарищ, не беда, — потчевал Швейк, придвинув свою полную кружку к грустному солдатику, — пей на здоровье.
Тот понял, выпил и поблагодарил:
— Köszönöm szívesen[4].
Затем он снова стал просматривать содержимое своего кошелька и под конец вздохнул. Швейк понял, что мадьяр с удовольствием заказал бы себе пива, но у него не хватает денег. Швейк заказал ему кружку пива. Мадьяр опять поблагодарил и с помощью жестов стал рассказывать что-то, показывая свою простреленную руку, и прибавил на международном языке:
— Пиф-паф! Бац!
Швейк сочувственно покачал головой, а хилый солдат из команды выздоравливающих показал левой рукой на полметра от земли и, подняв три пальца, сообщил Швейку, что у него трое малых ребят.
— Nincs ам-ам, nincs ам-ам, — продолжал он, желая сказать, что дома нечего есть. Слезы брызнули у него из глаз, и он вытер их грязным рукавом шинели. В рукаве была дырка от пули, которая ранила его во славу венгерского короля.
Нет ничего удивительного в том, что за этим развлечением пятерка понемногу таяла и Швейк медленно, но верно отрезал себе путь в Чешске Будейовице. С каждой кружкой, выпитой им и выписавшимся из лазарета солдатом-мадьяром, все менее вероятной становилась возможность купить себе билет.
Через станцию прошел еще один поезд на Будейовице, а Швейк все сидел у стола и слушал, как венгр повторял свое:
— Пиф-паф… Бац! Harom guermek, nincs ам-ам, eljen![5]
Последнее слово он произнес, чокаясь со Швейком.
— Валяй пей, мадьярское отродье, не стесняйся! — уговаривал его Швейк. — Нашего брата вы небось так бы не угощали!
Сидевший за соседним столом солдат рассказал, что, когда их Двадцать восьмой полк проездом на фронт вступил в Сегедин, мадьяры на улицах, насмехаясь над ними, поднимали руки вверх.
Это была святая правда. Но солдат, по-видимому, оскорбился. Позднее это у солдат-чехов стало явлением обыкновенным; да и сами мадьяры впоследствии, когда им уже перестала нравиться резня в интересах венгерского короля, поступали так же.
Затем солдат пересел к Швейку и рассказал, что в Сегедине они всыпали венграм по первое число и повыкидывали их из нескольких трактиров. При этом он признал, что венгры умеют драться и даже сам он получил такой удар ножом в спину, что его пришлось отправить в тыл лечиться.
Теперь он возвращается в свою часть, и батальонный командир, наверно, посадит его за то, что он не успел подобающим образом отплатить мадьяру за удар ножом, чтобы и тому кое-что осталось «на память», — этим он поддержал бы честь своего полка.
— Ihre Dokumenten[6], фаши документ? — обратился к Швейку начальник патруля, фельдфебель, сопровождаемый четырьмя солдатами со штыками. — Я видит фас все фремя сидеть, пить, не ехать, только пить, зольдат!
— Нет у меня документов, миляга, — ответил Швейк. — Господин поручик Лукаш из Девяносто первого полка взял их с собой, а я остался тут, на вокзале.
— Was ist das Wort[7] «миляга»? — спросил по-немецки фельдфебель у одного из своей свиты, старого ополченца. Тот, видно, нарочно все перевирал своему фельдфебелю и спокойно ответил:
— «Миляга» — das ist wie «Herr Feldwebl»[8].
Фельдфебель возобновил разговор со Швейком:
— Документ долшен каждый зольдат. Пез документ посадить auf Bahnhofs-Militärkommando, den lausigen Bursch, wie einen tollen Hund[9].
Швейка отвели в комендатуру при станции. В караульном помещении он нашел команду, состоявшую из солдат вроде старого ополченца, который так ловко перевел слово «миляга» на немецкий язык своему прирожденному врагу — начальнику-фельдфебелю.
Караульное помещение было украшено литографиями, которые военное министерство в ту пору рассылало по всем учреждениям, где бывали солдаты, по казармам и военным училищам.
Первое, что бросилось бравому солдату Швейку в глаза, была картина, изображающая, согласно надписи на ней, как командующий взводом Франтишек Гаммель и отделенные командиры Паульгарт и Бахмайер Двадцать первого стрелкового его величества полка призывают солдат к стойкости. На другой стене висел лубок с надписью: «Унтер-офицер Пятого гонведского гусарского полка Ян Данко разведывает расположение неприятельских батарей».