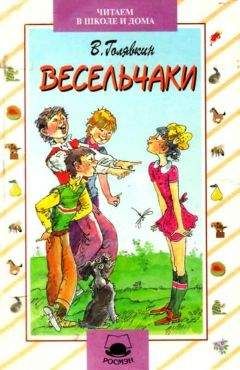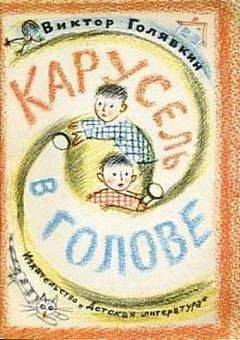— Значит, не хочешь выкладывать? — сказал он.
— Оставь его в покое, — сказала мама. — Это его дело. Его разговоры с этой девушкой. Вечно ты в чужие разговоры влезаешь!
— Девушкой! — закричал отец. — Какой девушкой? Английской?
— Не всё ли равно? — сказала мама.
— У меня никогда не было никаких знакомых английских девушек, — сказал отец.
— Очень напрасно, — сказала мама.
— Ах вот как! — сказал отец. Он размахивал этим письмом. — Капиталистических девушек у меня не было, это верно! И никаких писем из разных там Америк, Англий, Бразилий я не получал!
— Помолчи ты, — сказала мама.
— Ну хорошо, — сказал отец, — хорошо…
— Вот и хорошо! — сказала мама.
Я потихоньку выскочил во двор.
Я сел на ступеньку и так сидел долго. На другой день утром мне принесли письмо из «Пионерской правды»:
Дорогой друг! Сообщаем тебе, что твою акварель «Танки врываются в родной город», присланную на конкурс, мы отослали в Англию на выставку, посвящённую англо-советской дружбе. Желаем тебе творческих успехов!
Второй «летучий голландец»
В этот раз я писал на холсте. Кусок мешка я натянул на табуретку. Не очень-то хорошо у меня получилось. Сначала я его на ножки натянул. Так он у меня совсем не натянулся. И я его на днище натянул.
Отец, после этого английского письма, мне краски купил. Целую коробку масляных красок.
— Хотя у тебя и нет метода, — сказал он, — но будем надеяться, что он появится…
— Писать картины лучше на площадке, — сказала мама.
Я вынес табурет на площадку.
Держа в одной руке фанерку с выдавленными красками, а в другой — кисти из собственных волос, я прошёлся по нашей площадке.
— Витя, ты что, художник? — удивился дядя Садых.
— Не мешайте, — сказал я, — это дело серьёзное…
— На нашей площадке самые серьёзные люди живут, — сказал дядя Садых. — Я и Витя — самые серьёзные…
Все расступились. Я подошёл к холсту.
Я начал писать второго «Летучего голландца».
Уж на этот раз я напишу этого «Летучего голландца»!
Соседи говорили:
— Зачем краски-то столько накладываешь?
— Сколько стоит одна такая краска?
— Такую картину на базаре не продашь…
— Не толкайте его, не толкайте!..
— Отойдите от него, отойдите!..
— Не мешайте ему, не мешайте!
— Красиво-то, красиво получается!
— Где красиво получается?
— Кораблик получается!
— Где кораблик получается?
— Глядите! Глядите!
— Не брызгай на меня! (Это я им уже мешать стал!)
— Не махай так своей тряпкой!
— Отойдите, — сказал я, — я должен издали посмотреть.
Я отошёл от картины.
И так и эдак смотрел. Наклонял голову то в одну, то в другую сторону. Щурился. Складывал пальцы в трубочку и смотрел в дырочку.
Соседи молчали.
Они тоже складывали пальцы в трубочку и смотрели в дырочку.
— А кто его знает, может быть, потом доску прибьют на наш дом. Здесь, скажут, в этом доме, жил знаменитый художник Витя Стариков…
— Как же, прибьют, ждите…
— Если про него прибьют, то про меня тоже прибьют, — сказал дядя Садых.
— Художник — это интересно…
— У меня был брат-художник, потом он утонул…
— Художники — они здорово зарабатывают…
— У меня был дядя-художник, он себе мотоцикл купил…
— Смотря какой художник…
— Вот только краски пахнут…
…У меня, по-моему, неплохо получилось. Кое-где краски жидко ложились, а кое-где густо. В одном месте прямо настоящее море получилось. Жалко только, не было кобальта фиолетового. Значит, не в каждой коробке бывает кобальт фиолетовый… И соседи меня хвалили.
Я понёс табуретку в комнату. Я был уверен, что я написал выдающуюся картину.
— Взгляни на себя в зеркало, — сказала мама.
Я взглянул на себя.
Лицо моё было красным, синим и фиолетовым…
— Пройдитесь после уроков по всему городу, — говорил Пётр Петрович, — и сотрите эти палитры!
Это мы с Алькой ходили по городу и мелом рисовали на стенах палитры. А внутри палитры писали:
Витя!
Алик!
Рублёв!
Иванов!
Тинторетто!
Делакруа!
Рафаэль!
Рембрандт!
Мы, конечно, знали, что писать на стенах не очень хорошо. Мы всё это знали. Но как-то не думали.
— Если каждый будет, — говорил Пётр Петрович, — писать на стенах свои имена… Я понимаю ваше желание увековечить себя, так сказать, закрепить свои имена… Несколько преждевременно… не совсем, я бы сказал, благородные порывы… Мне завуч говорит: «Это не ваши там стены разрисовали?» Я говорю: «Нет, это не наши». Я думаю, мы с вами сами в этом разберёмся. Сотрите, пожалуйста, эти палитры… — Потом он сказал всему классу: — Кругом столько этих палитр… Не так-то легко от них избавиться… Может, ты, Кафаров, поможешь?
Кафаров молчал. Видно было, что он совсем не хочет помогать.
Встала самая маленькая в нашем классе Кира Велимбахова и тоненьким голосом говорит:
— Я помогу.
— Не надо нам помогать, — говорю.
— Тогда сделаем так, — сказал Пётр Петрович. — Каждый, идя в школу или из школы, наверняка встретится хотя бы с одной палитрой. Я вас прошу: сотрите её. Вот и всё. Я и сам так сделаю, когда буду проходить мимо.
— На нашем парадном нарисована такая палитра, — сказала Тася Лебедева.
— Вот, вот, — сказал Пётр Петрович, — ты её и сотри!
— Очень надо! — Тася Лебедева посмотрела на нас. — Они будут рисовать, а я буду стирать?
— Они поняли свою ошибку, — сказал Пётр Петрович, — они всё поняли.
— Пусть сами стирают, — сказал Кафаров.
— Какие вы, ребята! — сказал Пётр Петрович. — Почему я могу стирать, а вы не можете?
— На нашем парадном две палитры нарисовано было, — сказал Костя Шило, — а после их дворник стёр.
— Создают дворникам работу! — сказал Пётр Петрович.
— Пусть староста сотрёт эти палитры, — сказал кто-то.
— Вот ещё, — сказал староста.
— На нашем доме нет никакой палитры, — сказал Киршбаум.
— Ну ладно, — сказал Пётр Петрович. — Хватит. Этот разговор у нас затягивается. Он приобретает нелепый оттенок. Кстати, — он обратился ко мне, — сколько приблизительно этих палитр вы нарисовали?
— Штук сто, — сказал я.
— Может, двести, — сказал Алька.
— Безобразие, — сказал Пётр Петрович. — Форменное безобразие! Вы что же, выходит, не один день их рисовали?
— Не один, — сказал я.
— Каждый день, — сказал Алька.
— И давно вы начали эту кампанию?
— Не помню, — сказал я.
— Не помним, — сказал Алька.
— Вот уж не ожидал от вас, — сказал Пётр Петрович. — От вас я такого не ожидал…
— Мы сотрём, — сказал я.
— И я так думаю, — сказал Пётр Петрович.
О палитрах больше не говорили.
— Великие мастера любили монументальное искусство! — говорил Пётр Петрович. — Они любили размах. Размахнуться, как говорится… Росписи Рафаэля, Тьеполо, Рублёва, Микеланджело, Тинторетто… Это громадные произведения… запомните их имена!.. Микеланджело! Запомните это имя! У него была кривая шея. Он всю жизнь расписывал потолки и стены, не говоря уже о скульптурах. Попробуйте задрать вот так голову… вот таким образом… и держать её в таком положении. А он именно держал её в таком положении!.. А лежать на спине часами? Лежать на лесах и смотреть в потолок? Это не шутки, я вам скажу! Запомните это имя!..
После уроков мы пошли стирать свои палитры.
Не так-то легко было стереть их. Не стирались они, вот в чём дело. И тряпку мы взяли из класса. И тёрли вовсю. Не стираются! Две палитры мы стёрли. Кое-как стёрли. Два часа тёрли. Во двор бегали. Тряпки мочили. Рисовать-то их гораздо легче было.
— Да ну их! — говорит Алька.
— Неудобно, — говорю.
— И зачем мы их только рисовали! — говорит Алька.
Какой-то старик остановился, стоит и смотрит, как мы их стираем.
Смотрел, смотрел, потом спрашивает:
— И сколько вам за это платят?
Мы ему ничего не отвечаем и продолжаем стирать.
Он говорит:
— Не хотите ли вы сказать, что вы это делаете бесплатно?
— Мы ничего не хотим сказать, — говорит Алька. — Понятно?
Старик говорит:
— Понятно, но не совсем. — Надел очки и опять стал смотреть. Вздохнул и говорит: — Кажется, я вас с кем-то спутал. — Покачал головой и ушёл.
Он ушёл, какая-то собака стала на нас бросаться. Бросается и бросается, как будто мы её трогаем.
Когда мы эти палитры рисовали, ничего такого с нами не приключалось. Один раз только Альке по шее дали. И всё. За то, что на стенах мажем.