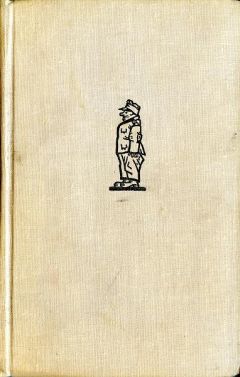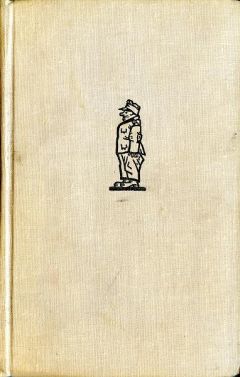Пока суд да дело, наступил август и черешня кончилась. В Праге им какой-то пан советник сказал, что упечет их в каталажку обоих, а пражский адвокат посоветовал простить друг дружку и забрать свои жалобы обратно. Так и сделали. А после как-то встретились в погребке «У Штупартов» и Вомачка говорит Печенке: «Франта, я — баран безмозглый, я на этих адвокатов всю черешню ухлопал да еще снимал ее за свои кровные!» А Печенка прямо взахлеб рыдает: «Я, говорит, Лойза, твой единоутробный брат… Мне этот год тоже в копеечку влетит! Иезус-Мария, что нам дома жены скажут?» Так что осмелюсь спросить, господин обер-лейтенант, вы уже подсчитали, сколько народу тем кормилось, что два дурня в Угржиневси друг другу по морде дали?»
«Сдается мне, Швейк, — обронил Лукаш, — что докторов и адвокатов ты не очень-то жалуешь. И чего они тебе дались?» — «Боже упаси, господин обер-лейтенант, я против них ничего не имею, это я лучше анархистам оставлю… В Либне, господин обер-лейтенант, был Один слесарь, Соукуп по фамилии. Сначала состоял в католической молодежи, а потом, поскольку он рос и развивался, вышел из него анархист. Сажали его так часто, что он через это малахольный стал. И вот говорит нам раз: «Долгов, говорит, делать не могу, никто уже не желает ждать, когда обратно получит. Потому стоит мне раскрыть рот, сразу сажают за оскорбление его величества».
N-ский маршевый батальон 91-го полка получил приказ сменить на позициях батальон какой-то польской части… В кромешной тьме пришли в последнюю деревушку на своей стороне. За ней уже проходила линия фронта. Чтобы в темноте их никуда не занесло, к батальону приставили проводника. Выбрались за деревню и по траншее начали карабкаться вверх, в горку. На вершине холма из-под земли, точно черви, неожиданно стали вылезать какие-то странные фигуры. Офицер, шпыняя вновь прибывших локтем, запихивал солдат в канаву траншеи и приглушенным голосом подгонял: «Лезьте уже, черт бы вас побрал! В каждую дыру столько, сколько там дыр для винтовок. И винтовки сразу суйте в амбразуры! Давай, давай, лезь! Чего ждешь, дерьмо всмятку?!»
Надпоручик Лукаш позвал Швейка и Балоуна, и они все вместе, в сопровождении проводника, отправились в офицерское укрытие — большую и очень глубокую яму. Спустя некоторое время надпоручик Лукаш вышел проверять караулы. Возвращаясь, он услышал, как Швейк говорил Балоуну: «Надо мне ему каких-нибудь досок раздобыть. Больно здесь сыро, мог бы схватить ревматизм! И стружек еще принесу, постелю ему помягче…» Слова Швейка заглушил густой бас Балоуна: «Иезус-Мария! И чем мы здесь только кормиться будем?! Господи боже ты наш всемогущий, сюда ведь даже харчи не подвезти!» Первую ночь Лукаш спал прескверно и утром встал совершенно разбитый. Выйдя из блиндажа, он спустился в овраг к ручейку.
У ручья сидел Швейк и ножом вырезал деревянные фигурки к мельнице, которая уже весело крутилась и постукивала на воде. Увидев надпоручика, Швейк встал, небрежно козырнул и сказал: «Осмелюсь пожелать доброго утречка, господин обер-лейтенант! Так что каждый должен сделать свое жилище поуютней, как писали в журнале «Счастливая обитель». Лукаш спустился вниз и, наблюдая, с какими усилиями Швейк старается придать деревянному чурбанчику подобие человека, невольно произнес: «Sancta simplicitas!», что означает всего-навсего «святая простота». А Балоун так и не смог понять, почему Швейк, спустя десять минут, спросил: «Послушай, неужто вам выдали столько сливовицы, что обер-лейтенант окосел уже с утра?»
Снаружи было опасно, а потому солдаты весь день торчали в своих норах. У Швейка не было никаких дел, кроме как лазить из укрытия в укрытие и обсуждать с солдатами ситуацию. А поскольку он мог кое-что узнать от своего обер-лейтенанта, в окопах это внушало к нему уважение. И вот однажды ротный ординарец залез в окопы с новостью: «Ребята, на рассвете двенадцатая вроде как пойдет в атаку… русских щупать! Должна была идти наша, но я предложил полковнику двенадцатую. Потому она уже и так на ладан дышит…» — «Вот-те клюква, завтра им дадут прикурить! — сказал капрал Рытина. — А полковник, это я знаю точно, он даже носа из блиндажа не высунет!»
«Братцы, во была бы лафа, если бы наш старый хрен вызвал на дуэль хрыча, который русскими командует! — внес предложение ефрейтор Трнка, столяр из Печек. — Скажите сами, куда уж лучше: заколотил бы русак наших, мы проиграли; а всыпет наш москалю, сдаются русские! И не нужно такой уйме народу победы добиваться!.. Читал я раз однажды здорово замечательный роман про какого-то Ольда Шаттерханда. Тот тоже за весь свой отряд сразился с индейцем, а перед боем сказал своим товарищам: «Не бойтесь, говорит, я его не убью. Но чтобы уразумил, что я христианин, только томагавком ему руки отхвачу».
«А ведь совсем не плохо придумано, — подхватил еще один солдат по фамилии Бечка. — И было бы даже вполне предостаточно, если бы с русским Николаем схватился сам Вильгельм или наш Франц-Иосиф. Слыхали, ребята, какие они друг дружке, перед тем как начаться войне, телеграммы посылали? Вильгельм вроде как телеграфировал в Петербург: «Эй ты, старый Николай, лучше нас не задирай!» А Николай будто на это в ответ: «Хочешь ты меня стращать, растакая твоя мать! Но хоть ты и громко лаешь, а меня не напутать». А наш старикан послал им обоим по депеше: «Как кузькина мать… нам уже на все начхать!» — «Насчет Вильгельма и Николая — это все истинная правда, — сказал Швейк, — а вот что касается нашего государя императора, — брешешь! Все это подлый поклеп!
Наш государь, как про то писал «Глас народа», принял сообщение, что Россия объявила ему войну, с полным достоинства спокойствием и воспылав справедливым негодованием, — продолжал Швейк. — А на заседании кабинета министров он якобы даже сказал: «Раз уж мы ни одной войны не выиграли, то нам это все равно, если еще одну проиграем». Потом государь сразу уехал в монастырь капуцинов и там молился. Так он и на карточку снялся, а потом она вышла в «Светозоре». Пан Лукеш, жестянщик из Добржиша, тот даже нарочно ездил в Прагу, доставать этот номер «Светозора». И никак не мог попасть домой — до того ему было жаль государя императора!
Когда же потом старшего сына пана Лукеша убили, а младший вернулся домой без руки, взял он тогда и со злости прибил эту картинку в одном месте. А жандармы про то пронюхали и милого жестянщика заграбастали. Теперь он, говорят, сидит в Терезине». — «И все ж таки было бы куда лучше, если бы бились между собой властители. А подданных оставили в покое! — настаивал на своем Бечка. — Ну, а ежели крови боятся, пусть попробуют кто кого во французской борьбе, тоже бы вполне сошло». — «Это, брат, нельзя. Если что произойдет промежду важными господами, то дело может решить единственно честный бой! Чтоб без обману!
Лежал я раз в больнице, а на соседней койке со мной лежал один малый, Пеиик Скугра. Вообще-то он был точильщик и мазурик, а потому ему запретили жить в Праге. И вот он мне рассказывал: «Сошелся я, говорит, тогда с одной бабенкой, Анькой Чадовой. Красивющая была баба, дочка какой-то немецкой княгини. Катим мы себе этак однажды из Ичина в Турнов. Я волочу точило, а она перед собой коляску толкает. Чем-то она меня там довела, чего-то наговорила, бросил я ее на дороге вместе с точилом и смылся. Припер в Новую Паку, а там со своим цирком жук один — Шимек его фамилия — и берет меня к себе как неуязвимого индийского факира и укротителя тигров. Но в Паке народ такой, что на мякине не проведешь, и в нашем цирке ни души.
Да и было-то у Шимка всего-навсего две лошади, ученая коза и пес, которого я ничему не мог научить. Свернули мы, стало быть, свой балаган и подались к Новому Боусову. Шимек говорит, что там еще цирка никогда не было. Объявляем первое гала-представление, приходит пара мальчишек; устраиваем второе, опять одни подмастерья! Шимек только знай в затылке чешет… Потом дает телеграмму в Прагу, а сам катит в Младу Болеслав и вечером привозит оттуда громадные такие афиши: «Классическая борьба на первенство мира, приз — десять тысяч крон!» Утром мы их расклеили, а в понедельник приезжают из Праги трое господ и спрашивают директора.
Оказывается, это были чемпионы Германии, России и Португалии. А я был за четвертого — человека в черной маске. Шимек же между тем распустил в трактире слушок, что человек в черной маске — местный, отсюда из Боусова. Ну вот… Вечером балаган набит битком, яблоку негде упасть. Мы, понятно, наперед сговорились, кто кого одолеет и каким макаром. Но они, черти полосатые, швыряли меня, что твою половую тряпку! — Только на второй день малый, который выступал за русского чемпиона, позволил мне, наконец, себя положить. Цирк ревел от восторга! На третий день Шимек под барабанный бой объявляет, что собравшиеся под крышей его шапито чемпионы вызывают местных силачей со всей округи помериться силами. Приз — пятьдесят крон!