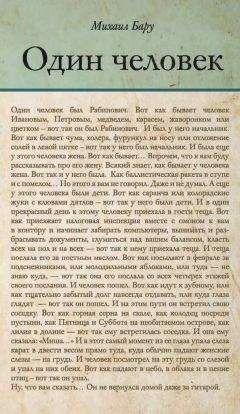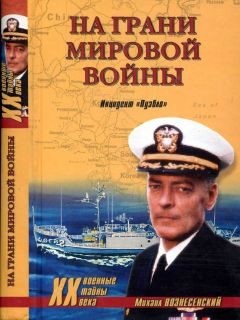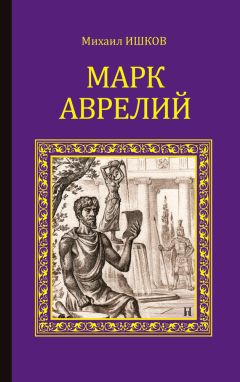Выйдя из магазина, я сказал сыну:
— Давай договоримся. Ты будешь барабанить только тогда, когда мамы не будет дома. Всё остальное время барабан будет спрятан в надёжном месте. Согласен?
— Да, пап, — ответил счастливый сын.
— Точно обещаешь?
— Точно-точно.
— Тогда начинай барабанить прямо сейчас, чтобы успеть набарабаниться до маминого возвращения.
И сын стал барабанить. К своему дому мы подошли с грохотом сводной роты суворовцев на военном параде. Потом ребёнок барабанил за обедом, сидя на горшке после обеда и ещё немного после того, как. За это время моя детская мечта осуществилась как минимум раз пять и скончалась оглохшая и пресыщенная. Его же, судя по тому азарту, с которым он барабанил, была живее всех живых. До приезда жены оставалось менее часа. С немалым трудом, отклеив сына от барабана, я стал думать, куда бы спрятать улику. Вообще-то я тугодум, и в ситуациях, когда надо быстро принимать решение, как правило, принимаю единственно неправильное. Этот раз не был исключением. Почему-то я решил, что лучше всего спрятать барабан под нашей кроватью, среди коробок с зимней обувью. Нашёл пустую коробку, положил в неё барабан, прикрыл старыми газетами и задвинул подальше в пыльную темноту За всем этим внимательно наблюдал безвременно обезбарабаненный сын.
Раннее утро следующего дня было субботним. Сквозь сон я услышал какое-то шебуршанье и пыхтенье рядом с кроватью. Потом кто-то чихнул. Открыв глаза, я увидел торчащие из-под кровати голые детские ноги. Случилось то, что должно было случиться: ребенок пришёл воссоединиться со своим барабаном. Сон как рукой сняло. Немедленно вытащив пыльного барабашку за ноги, я отвёл его в другую комнату и стал трагическим шёпотом увещевать. Увещевался он из рук вон плохо. Даже норовил вырваться из этих самых рук и устремиться к месту захоронения барабана. Поняв, что я не выпущу его из комнаты, он стал меня уговаривать: «Папочка, я побарабаню совсем чуточку, совсем тихонько. Мама же всё равно спит! Когда она проснётся, я сразу перестану!» Такая перспектива обрадовать меня никак не могла. Что же касается спящей жены, соседей… Пришлось нарушить устав молодого отца и дать мучителю две шоколадных конфеты до завтрака. У ребёнка в таком возрасте голова маленькая — в ней нет места для нескольких мыслей сразу. Либо барабан, либо шоколадная конфета. Две конфеты могут вытеснить из детской головы не только барабан, но даже рояль. Так мне казалось.
Через час, когда запахи гренок и кофе из кухни стали оглушительнее звона любого будильника, жена велела мне умыть ребёнка и приходить завтракать. Сын нашёлся в нашей спальне. Он сидел на полу, с лицом, перемазанным до пупка шоколадом, рядом с кроватью, и задумчиво катал пожарную машину. Я попытался отвести ребёнка умыться, но… попробуйте отогнать сенбернара от того сугроба, под которым он нашёл альпиниста. Я посмотрю, как у вас получится. Мы стали препираться. Сообразительный ребёнок предложил мне отвести маму погулять хотя бы на часок. А он тем временем… В ответ я пообещал ему дать по тому месту, на котором он так упорно отсиживался. И немедленно сдержал обещание. На шум пришла жена. На вопрос: «Что случилось?» мы оба не смогли дать вразумительного ответа. Начался допрос. Пока я охотно каялся в том, что дал конфеты не вовремя, не в таком количестве и вообще не тому, кому следовало бы… того, кому не следовало бы, как гвоздь магнитом втянуло под кровать. Вытаскивала его уже мама. Вместе с магни… то есть с обувной коробкой, в которой лежал… В это мгновение как наяву я увидел перед собой картину — арена цирка, посреди которой стоит шпрехшталмейстер и громовым голосом объявляет: «А сейчас — смертельный номер!» И раздаётся леденящая душу барабанная дробь…
После завтрака приехала моя мама. Мы обещали отдать бабушке и дедушке внука на выходные. Жена собрала Валеру в дорогу. Уже прощаясь и вручая бабушке сумку с детскими вещами, она обронила:
— Там у Валеры кое-какие игрушки. Пусть у вас ими играется. Можно не привозить обратно. Мы уж и так не знаем, куда их складывать.
— Да, мам, — сказал я. — У тебя дома, кроме свистка милицейского, и поиграть толком нечем. А тут… ну… веселей, в общем.
Сын стоял молча.
О выборах
Эта история случилась больше двадцати лет назад. Как сейчас помню, было воскресенье. Выбирали депутатов Верховного Совета. Или не Верховного. Или не Совета. Тогда это имело ещё меньше значения, чем сейчас. Просто добавь во… то есть бюллетень. Не дай властям засохнуть. Утром я поехал из Пущино в Серпухов, в роддом, проведать жену. В роддоме что-то передал, постоял, задрав голову перед окнами, высматривая жену. Был как раз тот самый случай, когда на вопрос: «Как дела?» супруга с полным правом могла ответить в рифму: «Ещё не родила». Родители жили неподалёку от роддома, и я после посещения пошёл к ним повидать двухлетнего сына, который на это время был изъят из моего обращения бабушкой.
Только мы сели пить чай, как раздался телефонный звонок. Трубку взял отец. Через мгновение отдал её маме. «Из милиции, — сказал он и поморщился. — И в выходной житья от твоей работы нет». Мама послушала, сказала «хорошо» и положила трубку. «Опять вызывают?» — спросил папа. Оказалось, что не вызывают, а разыскивают меня. Так получилось, что я уехал в роддом, совершенно забыв об отправлении культа. Тогда ведь уже к полудню все избирательные участки рапортовали о том, что мы все как один, в едином порыве… Меня же в порыве не оказалось, поэтому сработала аварийная сигнализация. На участке всегда дежурил милиционер, он позвонил в отделение, в отделении сказали номер телефона «товарища подполковника», то есть моей мамы, а уж мама… Как писал Пригов, о котором я тогда и слыхом не слыхивал: «Но придёт милицанер — скажет им не баловаться!» Баловаться, то есть попить чаю с плюшками, мне не дали, как я ни сопротивлялся. Быстро собрали в дорогу. Не то чтобы родители мои были большими любителями исполнять свой гражданский долг, но… так было тогда принято. Ильич в звёздах и бровях, Кобзон в телевизоре с песней «Ядерному взрыву — нет, нет, нет» и исполнение гражданского долга с утра пораньше. Принято и всё. Вдруг представил себе, как Кобзон вышел бы на сцену Кремлёвского Дворца Съездов с этой антивоенной песней. За ним краснознамённый хор московского военного округа. Медь сверкает, трубы горят, а на Кобзоне татушная маечка с надписью: «Хуй войне»… Впрочем, я отвлёкся. Меня выпроводили в Пущино. От Серпухова до моей деревни час езды на автобусе. В одной руке у меня были банки с вареньями и соленьями, а во второй с соленьями и вареньями. И вообще был я нагружен солью, спичками, керосином и тёплыми вещами так, что мог бы и до канадской границы доехать, ни в чём себе по пути не отказывая. Изрядно упрев в переполненном автобусе и практически оборвав все имевшиеся в наличии руки, я доехал. Не успел я ввалиться домой, предвкушая душ и рюмку водки, как раздался звонок в дверь. Вспомнив мать того, кто пришёл, я открыл. На пороге стоял милиционер.
— Бару? Михаил Борисович?
— Он самый.
— Вы почему ещё не проголосовали?
— Да я, собственно… Вот только вошёл..
— Нехорошо получается. Надо проголосовать. Уже все отстрелялись, а вы…
— Я обязательно. Обещаю. Ведь ещё только четыре часа, а голосовать можно до восьми.
— Нехорошо получается. Надо проголосовать. Уже все отстрелялись, а вы…
— Да я точно проголосую. Дайте дух перевести. Честное слово, проголосую.
— Нехорошо получается. Надо проголосовать. Уже все…
— Всё. Пошли.
— Вот и молодец. Пройдём со мной. Я провожу. Тут недалеко. А то нас, знаешь, тоже мучают с отчётностью. Собираем по квартирам таких вот…
И мы пошли на избирательный участок. На участке уже всё затихало. Голосующих почти не было. Пиво и бутерброды в буфете кончились, принаряженные тётки за столами уже скучали. Конвой мой довёл меня до входа, попрощался и пошёл, наверное, в другую квартиру, вытаскивать «таких вот». Оглядевшись, я двинулся к столу с табличкой, на которой были буквы А, Б, В, Г… И тут из угла раздался возглас: «Бару! Кто здесь Бару?» Я обернулся, чтобы сказать… чтобы всё сказать. Я приготовил для этого простые, незатейливые и понятные любому у нас слова. В углу стоял милиционер, который держал в руках телефонную трубку.
— Бару? — переспросил он.
— Да сколько ж можно… С самого утра…
— У вас дочь родилась, — сказал страж порядка и заулыбался.
* * *
Двадцать лет назад, когда институт, в котором я работал, ещё только-только построили, перед ним было перепаханное поле с обломками кирпичей, растрёпками арматуры, россыпями брошенных нецензурных выражений прорабов, рабочих и случайных зевак, вступивших в незастывший раствор или перемазавшихся в гудроне. Городские власти решили устроить парк на месте этих строительных баталий. Это была, конечно, разумная мысль. Тогда был какой-то особенный год для городских властей. У председателя горисполкома было целых две разумных мысли. Второй было обращение к молодым родителям посадить в честь своих детей деревья. Сколько детей — столько и деревьев. На праздник мы пришли вчетвером. Родителей с маленькими детишками собралось много. Мы тогда заводили детей без оглядки на курс доллара и индекс Доу-Джонса на нью-йоркской фондовой бирже. Нам с супругой дали лопаты и два саженца берёзы. Дочь сидела в прогулочной коляске и от избытка чувств размахивала красным пластмассовым совком, а сын, поскольку уже год как умел ходить, принял посильное участие в броуновском движении вокруг кучек выкопанной земли, лопат, носилок и саженцев. После того как две ямки были выкопаны, перемазанный в земле сын раз десять из них вытащен и раза три отшлёпан, берёзки были посажены. Потом был митинг и слова о том, что в этой жизни надо построить дом, вырастить сына, а если не получится, то дочь, написать книгу и посадить дерево, потом уставшие, но довольные мы разошлись по домам, потом прошло восемнадцать лет, и берёзы на этой аллее выросли так, что из окна моего кабинета на четвёртом этаже видны их верхушки.