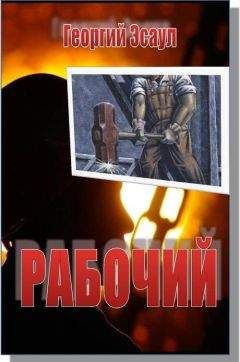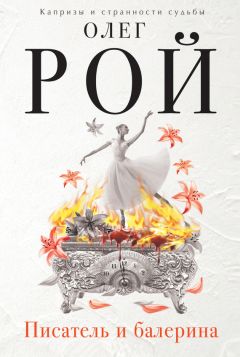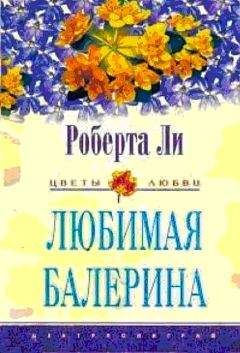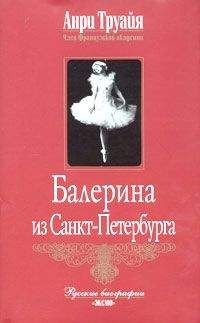Лёха голый стоял под душем, закрыл глаза от удо-вольствия, приглаживал волосы и фыркал буйволом в ин-дейской резервации.
Когда он открыл глаза, то обнаружил, что на него пристально смотрит кадровичка Елена (по совместитель-ству уборщица), похожая в своем гневе на евнуха из гаре-ма падишаха.
Елена в белом халате уборщицы, в резиновых тапоч-ках, в желтых резиновых перчатках (Лёха вспомнил — сан-технические) озиралась на швабру, но мило и естественно, словно не в мужской душевой, а на гребном канале чемпи-онка России по гребле на байдарках.
Лёха смутился, прикрыл руками низ живота, будто прятал дурную болезнь.
Он ждал, что Елена протрет пол и уйдет в свою рабо-ту, дальше по цехам и душевым с грязными полами.
Но молодая девушка не уходила, а внимательно осматривала Лёху, словно с него мерку на гроб снимала или на свадебный костюм.
«Полюбила меня Елена, проняло её, — Лёха подумал с неудовольствием, потому что Елена ему не нравилась, и особенно — её сын от неудавшегося жениха, который сей-час спокойно делает других детей другим женщинам. — Таскается, на любовь нарывается, молодая горячая кобы-лица.
Что любовь? — пыль между ног.
В цеху пыль полезная, трудовая, а любовь — пыль пу-стая, ненужная, потому что невидимая, как заноза в попе.
Нашла девка время и час, пришла к голому мужику в душ, ждет, когда я на неё напрыгну, как щеголь набрызги-вает на балерину на сцене.
Отдастся мне со страстью, а потом зарыдает, скажет, что я её соблазнил, обесчестил — это рожавшую женщину, и теперь, как честный человек должен взять в жены и усы-новить ребенка, словно я только что откинулся с кичи и мне нужна хорошая репутация семьянина.
Ладно бы — балерина, а то — кадровичка-уборщица без стажа.
Балерин я не люблю, но они в глазах общества что-то, да и стоят; большие деньги люди за балерин платят, а за уборщицу денег никто не даст, потому что уборщица по индийской системе каст стоит ниже полицейского.
Под халатом, небось, ничего Елена не надела, чтобы не мешало нам, и процесс прошел быстро, без запинки, и никто бы не прервал нашу добрачную любовь.
Бабы думают, что весь мир для них создан со звезда-ми и Луной.
Хорохорятся, выпендриваются бабы, особенно в шалмане после смены, а как до дела дойдет, до рабочего станка, так станину от щетки-сметки не отличит, словно гуталином глаза залила».
Шутка о том, что баба не отличит станину от щетки-сметки, рассмешила Лёху, и он тихонько захихикал, как вуерист в кустах.
Но затем устыдился своего смеха подпольного:
«Что обо мне подумает Елена, когда я голый под ду-шем смеюсь, словно наступил на сальник.
Подумает, что я над её внешностью и чувствами хо-хочу.
Женщины всегда думают плохое, когда мужчина смеется, и кажется бабам, что мы, мужички, только тем и живем, чтобы на них внимание обращать и смеяться по каждому их прыщику.
Дуры бабы!»
Лёха удержал смех, решил, что перебьет взгляд Еле-ны своим взглядом, и долго, пристально смотрел ей в глаза — так прокурор смотрит в глаза подсудимого миллионера.
Елена взгляд не отвела — понятно, что к свадьбе гото-вится, поэтому крепится, будто винт в неё стальной вкру-тили.
Лёха оробел, отвел взгляд, смотрел на ноги Елены, нормальные ноги, женские, и заканчиваются, наверняка, нормально потому что Елена родила ребенка.
Кадровичка, уборщица, но не балерина и не виолон-челистка.
Лёха вспомнил интеллигента из шалмана, когда ин-теллигент хвастался, что для него и его друга в сауне голая виолончелистка музыку извлекала из виолончели.
«Почему у нас на заводе, в раздевалках, или у станка не прохаживаются голые виолончелистки? — хмельная мысль пошла под корни волос, и Лёха еще сильнее захме-лел. — Одна виолончелистка на всех работяг: мы под ду-шем смываем усталость после рабочего дня или ночи, а она голая на пластиковом желтом табурете — пластиковый, чтобы в душевой не намокал — наяривает Шуберта на вио-лончели.
Искусство принадлежит народу, а кто народ? как не рабочие парни с мозолистыми руками.
Мозоли мы набили не на печатных машинках, а у станка с прибылью, как сказал в своё время бородатый Карл Маркс.
Карл Маркс умер, а его борода живет в памяти рос-сиян. — Мысль о голой виолончелистке взбодрила Лёху, и он уже смотрел на Елену со стороны искусства: вдруг, Елена оканчивала музыкальную школу по классу виолон-чели?
По классу фортепиано — не подойдет, потому что пи-анино в душевую не влезет, а, если затащат, то намокнет, как черепаха в супе.
Виолончель тоже намокнет, но она быстрее высох-нет, чем пианино, потому что пианино слоноподобное, а виолончель бабаподобная.
Женщины быстро обсыхают, как флаги на кораблях. — Лёха задумался, даже приложил руки ко лбу, тер виски в поисках ответа на вопрос: «Нужна ли голая виолончелист-ка в заводской душевой?», но спохватился и снова при-крыл стыд и срам руками: — Нет! Баба с виолончелью — не по-рабочему, не по-заводски, всё равно, что корову приве-дем в цех.
Корова полезная, от неё молоко, но и корова вредна для рабочей атмосферы.
Суровые наши лица, щетки-сметки, станки, грохот, швеллеры, салазки, маховики, солидол — разве это совме-стимо с голой виолончелисткой?»
Лёха в досаде на себя за то, что допустил мысль о ви-олончелистке в душевой, отвернулся от Елены «Когда же она уйдет по своим делам, невеста?», колупал пальцем ды-рочку в кафеле, словно просеивал золотоносную руду.
Он вспомнил, как много лет назад на него смотрела девочка в нескучном Саду, где летают мухи и под кустами валяются окурки.
Лёха молодой, смелый наслаждался природой и надеялся, что из кустов вылетит фея, которая наметит жизнь в волшебное русло реки Амударьи.
Река Амударья притягивала Лёху загадочностью и далью, будто Луна упала с неба и убегает от Лёхи на ко-ротких тонких ножках.
Фея из кустов не вылетела, но вышла девушка с пронзительно голубыми глазами цвета молодой бирюзы.
В музеях бирюза старая, ощупанная, окислившаяся, а в глазах девушки — молодая, словно бирюзу протерли ка-меной тряпкой с серной кислотой.
Девушка встала перед Лёхой и смотрела ему в глаза, как и Елена сейчас смотрит, будто вынимает душу и под-писывает свадебный контракт.
Лёха стушевался в Нескучном Саду, разволновался — никогда раньше его девушки так явно не кадрили, словно он не юноша, а — разносчик обувного клея.
Но он нашел в себе смелость, собрал со дна души храбрость и улыбнулся девушке, ясно и солнечно улыб-нулся, будто пробивал взглядом морскую волну.
Девушка не ответила на улыбку, ни один мускул на её ровном с небольшим количеством прыщей лице не ше-вельнулся.
Лёха улыбнулся шире, и его улыбка уже не та ис-кренняя, а новая, заискивающая, потому что сглупил с первой улыбкой — так школьник по ошибке выпивает вме-сто компота чернила.
Но и на широкую заискивающую улыбку девушка не ответила, словно презирала Лёху за то, что он с утра выпил две бутылки пива «Жигулевское».
Лёха не смел, волновался, не начинал разговор скле-енным языком.
Девушка тоже молчала, а затем, после пяти минут простоя, пошла влево, налетела на столб, ударилась лбом в камень и завопила дурным голосом со вставками матерных слов:
«Да помогите же, ироды, слепой девушке!
Вшивая бабка куда-то провалилась, лучше бы в ад!
Наверно, с мужиками водку хлещет, а обо мне забы-ла.
Собака-поводырь не забыла бы, а родная бабушка за-была!».
Девушка оказалась слепая, как пень в Белорусском лесу.
В душевой Лёха подумал на миг, что Елена тоже ослепла и не видит его, а кажется Елене, что стоит она по-среди цеха или на улице под дождем.
Лёха провел рукой перед глазами Елены, снимал пе-лену страха и венец безбрачия.
Женщина немедленно взорвалась, словно пузырь с перегретой водкой:
— Зачем же ты дошел до зверства, Лёха?
Рабочая жилка, заводское поведение, а руки распус-каешь, словно последний музыкант.
Ты гадость написал на кафеле? Признавайся?
Если ты, то на, стирай, — Елена сунула в руки Лёхи половую тряпку с дырками, словно её моль под водой съе-ла. Коричневая жижа брызнула на живот Лёхи: — Бес-стыдник! Голый перед женщиной красуешься, извращенец.
Веришь, что можешь хорошо со мной зажить в заго-родном твоем доме.
Не дождешься, маньяк со стажем.
Теперь я знаю, кто хлеб в заводской столовой не до-едает и кошкам и голубям скармливает, словно они лучше голодающих детей Новой Зеландии.
Лучше бы ты отравился, чем выставлял себя на позор и на посмешище в мужской душевой, когда туда вошла порядочная уборщица, труд которой ты не уважаешь.
Знаю, что написал на стенке гадость какой-то дурак, проходимец и нехристь.
На тебя сначала не подумала, но ты так долго смот-рел на меня, не стыдился своей наготы и даже мерзко хи-хикал маниакально, и я поняла — ты, ты написал «Анато-лий Маркович — гад».