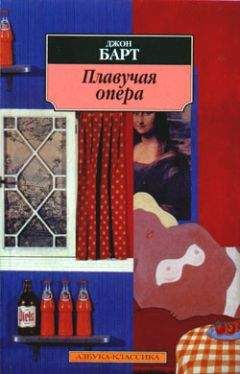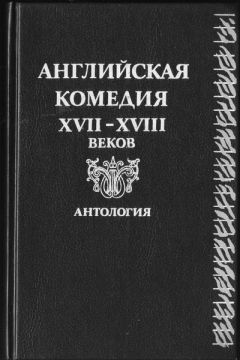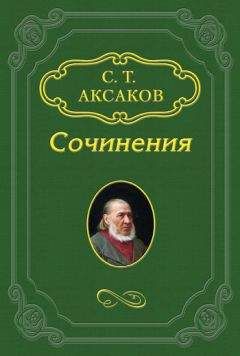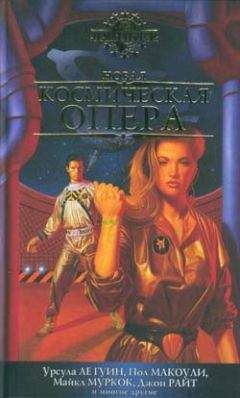- Ой, прости, пожалуйста! - сразу спохватилась она. - Дура я, не хотела же, совсем не хотела обидное сказать. - Попробовала пальцы мне поцеловать, но про такое мне и думать было невыносимо. Я убрал руки за спину.
Из-за этого, уж никаких сомнений, ничего у меня потом в постели не получилось. Да и Джейн виновата; загладить вину хотела, сразу же на меня все свои ласки обрушила, а я в таких ситуациях плохо реагирую. И, кроме того, из-за напоминания о пальцах мне все мое костлявое тело сразу противным сделалось - а тогда попробуйте-ка себя раскочегарить.
- Тоди, милый, что случилось? - хныкала Джейн. - Ну перестань, я же правда не хотела тебя обидеть. (Пустое словоговорение, как я выяснил на следующий день, когда мне про поездку в Италию было объявлено.)
Ничуть я не обиделся, заверяю ее, - поначалу и в самом деле обиды не чувствовал, - однако страсть ее, равно как беспокойство, остались неутоленными. Я поднялся, выкурил сигарету, снова лег, ворочаясь с боку на бок, и опять поднялся, почитал, выпил еще немножко и еще немножко покрутился на подушке. Джейн уснула - на лице ее так и осталась досада пополам с недовольством. Я коснулся губами нахмуренного лобика, встал и, поняв, что не усну, принялся за "Размышления".
На душе у меня было скверно, поэтому писал я с отвращением. Только в такие вот минуты слабости готов я признать свою затею чепухой: с час просидел я у окна, рассматривая почтамт и коря себя за то, что тринадцать уже лет занимаюсь этими глупостями. Да и вся жизнь моя в эти тринадцать лет сплошная глупость, только одна вымученная маска за другой.
Симптоматично, замечу тут же: впервые, кажется, я назвал масками то, что всегда считал стадиями своего интеллектуального развития. И, еще существеннее, никакого тут цинизма не было, поскольку, едва я осознал происшедшую перемену в мыслях, как все во мне заныло от быстрых уколов отчаяния. Я не мог тогда взять в толк, что эта маска циника - уже понятно стало, что только маска, - износилась и отказывается служить мне дальше. Если бы с нею все было в порядке, я бы, пожалуй, и не вспомнил о своем сердце.
А сердце вдруг заполнило собой все мое существо. Казалось, все существо сейчас разорвется - не сердце, а все существо, переполнившееся этим сердцем, болезненно во мне трепетавшим. Сейчас вот возьмет и откажет! Я поскорей поднес к груди ладонь, чтобы послушать, уж не останавливается ли оно, ухватился за подоконник, боясь рухнуть, да всматривался, всматривался в ничто - разинув рот, как рыба, вытащенная из воды. И все это не из-за боли - из-за отчаяния!
Вот что я в тот миг понял: все мои маски - лишь полуосознанные попытки совладать с тем главным фактом, под властью которого мне выпало жить; и что ни одна из них справиться с ним не помогла; и что теперь, когда бессильным оказался цинизм, не выручит никакая будущая маска; и что, коротко говоря, сердце повелевает всем, что во мне есть, даже моей волей. Сердце создает все маски, а не моя воля. И вывод, меня просто сокрушивший: нет возможности совладать с фактом, под властью которого мне выпало жить. Безнадежность душила меня, схватив за горло, в голове ныло от боли. Возвести очи горе, простирая к небу руки, было первым, всепоглощающим побуждением, но для меня там, в небе, не находилось, к кому вознести мольбу. Так что оставалось лишь стискивать зубы, закатывать глаза да мотать головой из стороны в сторону. И каждое такое движение пронзало своей бессмыслицей, каждое накатывающее чувство несло в себе собственный оттенок безнадежности, пока меня не начали отовсюду обстреливать батареи маленьких агоний, - заряды подносила та огромная агония, которая бушевала в моих сокровенных глубинах.
Не помню, сколько я так просидел. Кончилось тем, что нервы мои, и без того истрепанные, сдали под этим чудовищным напряжением, совсем меня деморализовавшим. Тело вдруг покрылось испариной, дрожь била от макушки до пят. Что уж там, нет у меня сил отрицать, что, не отыщись тогда какой-нибудь другой подпорки, я бы скорей всего закончил ту ночь на коленях, возложив все во мне заключенное на алтарь, обозначаемый словом "Бог". Но другая подпорка была поблизости - Джейн, безмятежно спавшая. И та стыдливость, которую испытываю я, описывая вот сейчас, как, изнуренный и дрожащий, доплелся до постели, как уткнулся головой, будто ребенок, ей в колени, как лежал, всхлипывая, пока не подобрался ко мне сон, как, поджав колени к груди, боролся с отчаянием, словно с аппендицитом, - стыдливость эта примерно такая же, какую я бы испытывал, если бы пришлось признаваться, что отдался во власть Бога. Да, друг-читатель, не скрою, мне стыдно, и все же душевно тебе рекомендую: воспользуйся при случае мною найденным прибежищем. И не надо при этом вспоминать о страусе, ведь враг, от которого ты пытаешься убежать, внутри тебя самого.
Понятия не имею, догадалась ли Джейн хоть о чем-то. Едва пробило шесть, я проснулся: голова моя была на подушке, Джейн посапывала на правом моем плече. Очень предусмотрительно я понюхал ее волосы: закат с примесью соли. С того самого утра ни одна женщина не разделяла со мной ложе, однако же ровно в шесть утра я легко могу вызвать в памяти запах Джейн Мэк. Поднявшись, огляделся и ощутил, как мысль моя крепнет и мужает. Что же это за вопрос, над которым я так мучительно бился? По своему обычаю, еще не вставая, я протянул руку к подоконнику за виски, сделав славный глоток, - меня так и затрясло, но ответа не нашлось. Потихоньку, стараясь не разбудить Джейн, вылез я из постели, накинул пиджак от костюма, плеснул в лицо холодной воды - и понял, что сегодня я с собой покончу.
- Ну разумеется!
Я с усмешкой смотрел на собственное мокрое лицо в зеркале - с глупой, тупой усмешкой. Конец всем маскам!
- Разумеется!
Не нужно больше пытаться совладать с фактом, под властью которого мне выпало жить, однако мне по силам совладать с самим фактом, что живу - тем, что покончу с собой, и тогда получится тот же, желанный мне результат: все-таки я совладаю. Я еле подавил смешок.
- Не кричать же на весь свет!
III. Оттого не существует "высшей" причины придавать чему бы то ни было ценность.
И я добавил: "чему бы то ни было, включая жизнь", после чего для меня сразу выяснился следующий пункт.
IV. Жить значит действовать. Конечных причин для того, чтобы действовать, нет.
V. Нет конечных причин для того. чтобы жить.
Последний тезис заслуживал того, чтобы несколько минут рассматривать его да перечитывать молча, а затем я завинтил колпачок авторучки, спрятал ее в карман, положил письмо Юстасии туда, где его должен отыскать Джимми, и, надев соломенную шляпу, вышел - ни чуточку ни о чем не жалея.
"Размышления" теперь завершены.
В идеале новую философскую позицию, как новую лодку, лучше всего выдержать денек-другой в доках, чтобы швы потеснее сошлись, прежде чем пойдут серьезные испытания. Но едва я показался в холле, как меня окликнул из своего номера капитан Осборн.
- Ты не на представление, Тоди, собрался, на баржу эту?
- Совершенно верно, сэр.
Капитан хмыкнул, прокашлялся, сплюнул в ладонь мокроту и заковылял мне навстречу.
- Пройдусь-ка и я с тобой, если не возражаешь, - объявил он мне. - Сто лет на представлениях этих не бывал. - Он засмеялся. - Мальчишечка-то наш Хекер - я его теперь Мальчишечкой называю - такого мраку на всех нас нагнал, надо, думаю, малость встряхнуться, пока ноги носят. Как ты, все в порядке?
Не следует, вообще говоря, так вот с ходу и осуществлять, что решил, это все равно как подставить новенькую лодку прямо под ураган.
- А Мальчишечка-то где? - спросил я, улыбаясь.
- Да не пойдет он, - отмахнулся Осборн, - больно стар для таких-то штучек. Я и не видел его с самого утра. Дай-ка я за тебя уцеплюсь, позволишь?
Так, стало быть. Построив лодку, пробуешь, не течет ли где, и хотя не очень-то беспокоишься, а все же интересно. Да и хорош тот, кто судно свое со стапелей спустить боится. Зачем же тогда над судном этим корпел?
- Пожалуйста, - говорю, и свел своего друга вниз по ступеням.
Не очень-то приметная в дневном освещении, "Оригинальная и Неподражаемая Плавучая Опера" выглядела несколько более импозантно, когда мы с капитаном Осборном двигались в ее направлении по окутывавшейся жаркими сумерками Длинной верфи.
От столба в доках протянули провода, и баржа переливалась многоцветными электрическими огнями, которые смотрелись бы совсем эффектно, будь потемнее. На крыше театрального зала уже устроились профессор Эйзен с тринадцатью музыкантами Лучшего морского оркестра Атлантики и Чесапика (страховка 7500 долларов), и, если не ошибаюсь, играли они "Ах, янки, янки, денди настоящий", а слушателей набралось несколько сот человек, в большинстве - негры - для того только и пришедших, чтобы послушать бесплатный концерт да поглазеть на кораблик с оперой, потому как денег купить билет у них не было. Касса вовсю работала - совсем немного осталось до начала представления, - и тянулась длинная очередь от этого павильончика к трапам на палубу. Капитан Осборн сразу ожил, пустив в ход свою трость, чтобы разогнать путавшихся под ногами мальчишек и очистить путь, пролегавший прямо к кассе.