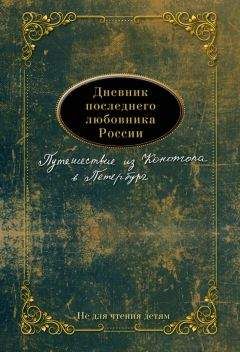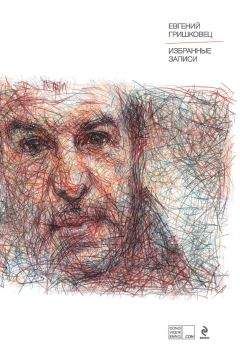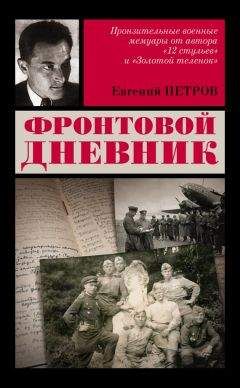Мы выстроились в шеренгу напротив борделя. Из его дверей стайкой выпорхнули мордастенькие купчики и, на ходу надевая кафтаны, нырнули в проулочек, словно аляпки в ручей. Барышни Клявлиной растворили окна и со смехом стали задирать нас шуточками.
– Эй, гусары, что стоите как вкопанные! – кричали нам барышни. – Мы сейчас уснем!
– Ба, а вон и поручик, который… вчерась кузнечиху. Что, поручик, все никак не угомонишься? Ну, иди к нам, уж мы-то тебя живо объездим!
Глаза барышень, как светлячки, весело сияли нам из окон.
– Корнет Вольский! – скомандовал штаб-офицер.
Вперед выехал корнет Вольский. Барышни захохотали, заулюлюкали, некоторые вскочили на подоконники и стали зажигательно плясать, раздразнивая нас.
– Корнет Вольский! Играть «К атаке»! – снова скомандовал штаб-офицер.
Корнет залихватски вскинул горн.
– Тру-ту-ту-ту-ту-ту! – зазвучало на всю округу. – Тру-ту-ту-ту-ту-ту!
Дружным залпом хлопнули пробки шампанского в наших руках, барышни Клявлиной завизжали.
– Взять корабль на абордаж! Никого не щадить! – привстав на седле, зычно крикнул наш предводитель. – Вперед, гусары!
С криками «ура!» мы ринулись на штурм.
…Под утро меня везли домой на телеге, поскольку после «боев» в борделе я не имел сил держаться не только в седле, но даже и на ногах. Я лежал навзничь в сене, и мне казалось, что на мои щеки падают с неба теплые звезды. Это были слезы милой моей Авдотьюшки, которая и везла меня домой.
Слава – как ветер, который гонит волны против течения реки. Как ветер ни старается, а река все несет свои воды к морскому долу. Так и моя слава победителя кузнечихи блеснула и быстро потускнела в суете других событий. И если поначалу мне казалось забавным, что многие конотопские обыватели узнавали меня, женщины пугали моим именем непослушных детей, а мальчишки бежали за мной, подобно тому, как бегут они за слоном, когда ведут его по улице, то вскоре это стало раздражать. Слава победы над легендарной кузнечихой, окрылившая поначалу, как бокал игристого, быстро дала оскомину. Некоторые гусары, еще недавно восхищавшиеся моей доблестью, переменили свое мнение и говорили теперь, что я чуть ли не бросил тень на честь полка, публично вступив в любовную баталию с низкой простолюдинкой. Кроме того, пополз слух, будто бы я вступил в баталию с кузнечихой из низменной цели разжиться на пятьдесят рублей. И хотя я, получив эти пятьдесят рублей, в ту же минуту отдал их интенданту Горнову, чтоб он передал их отважной кузнечихе, нелепый слух захватывал все новые умы.
Меня перестали приглашать на приемы к предводителю, где прежде я волочился за его дочками. Предводитель почел, что мое присутствие у него в доме может скомпрометировать их, но была и другая причина отказа. Впрочем, о ней я узнал много позже. Как выяснилось, вскоре после моей баталии с кузнечихой предводитель повесил в своем кабинете новую картину. Она называлась «Битва Геркулеса с Гидрой». Предводитель с гордостью показывал эту картину всем своим многочисленным гостям и утверждал, что она писана с натуры, с самого Геркулеса древнегреческим художником и что ему доставили ее из Греции в знак особых его заслуг в трактовании древних мифов. На самом же деле на картине был изображен мой уд. А Геркулес, сражающийся с Лернейской гидрой, только пририсован к нему. Причем размерами древнегреческий герой лишь немного превосходил мой уд, и малосведущий в мифах зритель запросто мог подумать, что Геркулес не отрубал Лернейской гидре головы, а попросту пронзил ее своим фаллосом, как копьем.
Как так получилось, что у Геркулеса оказался мой уд, – история довольно занятная. Главную роль в ней, как потом выяснилось, сыграл интендант Горнов. Он упросил фельдъегеря, сделавшего с моего уда зарисовку, дать ее на время, чтоб «получше все рассмотреть». На самом же деле Горнов решил извлечь из этой картинки коммерческую прибыль. И извлек. Он отнес рисунок в типографию, где гравер пририсовал к моему уду Геркулеса, сражающегося с гидрой, и сделал копии. Одну копию Горнов тут же продал предводителю как древнегреческую картину, доставшуюся ему в наследство, другую подарил полицмейстеру, а несколько копий отправил друзьям в разные города. На этом бы и остановиться предприимчивому интенданту. Да куда там! Через несколько дней Горнов вновь отправился в типографию, наделал новых копий и пустил их в широкую продажу. Теперь чуть ли не в каждом конотопском трактире и шинке обедающие могли видеть мой уд, пририсованный к античному герою, а интендант подсчитывал барыши. Вот уж действительно точно замечено поэтом, что типография обладает волшебным свойством превращать любой вздор в серьезное и значительное.
Узнав о столь широком распространении картины «древнегреческого художника», предводитель понял, что здорово обмишурился. Он провел расследование и быстро выяснил, чей именно уд был изображен на картине. Особенно удручило предводителя, что орудие мое было запечатлено на картине сразу же после любовной баталии. И – не с дворянкой, а с женщиной низкого звания! Картину предводитель из своего кабинета немедленно удалил, а мне отказал в посещении дома.
Жаль, что вся подноготная этой истории стала известна мне много позже. Узнай я о ней сразу же, многое бы сложилось в моей жизни по-другому. Но увы, увы…
Впрочем, в те дни мне и других «новостей» хватало – чуть ли не каждый день я узнавал от друзей все новые небылицы, которые ходили обо мне в городе и среди моих же товарищей. Как это часто бывает, правдивые истории зачастую перемешивались с клеветническими анекдотами. Так, например, говорили, что однажды, еще в Петербурге, играя в общественной бане в карты с простолюдинами, я якобы поставил свой детородный орган на кон. В случае своего проигрыша я обещал отсечь его и передать в кунсткамеру. Клеветники утверждали, что, когда я окончательно проигрался, не только не отсек уд, как обещал, но, изобразив из себя оскорбленную добродетель, отхлестал им по щекам всех бывших вокруг людей. Вот какие вздорные сплетни распускали обо мне враги, умело превращая толику правды в чудовищную ложь. А эта толика правды заключалась в том, что действительно я как-то играл в карты, но, разумеется, не с простолюдинами, а с товарищами в бане при лупанариуме. При том я заметил, как некий дерзостный лакей, воспользовавшись тем, что внимание всех гусаров приковано к игре, уселся в уголочке и начал преспокойно попивать наше шампанское. И даже ногу на ногу щегольски закинул, словно барин, снисходительно взирающий на забавы своих холопов. Разумеется, я схватил канделябр и метнул его в наглеца-лакея. При этом мой уд невольно – ведь все мы были обнажены – описал нечаянную дугу и ударил по щеке прапорщика Елизарова, сидевшего рядом со мной. Тот выронил из рук карты и пребывал некоторое время в тревожном раздумье: как ему следует поступить? Воспринять произошедшее как некий досадный, но случайный конфуз или же считать пощечину, нанесенную детородным органом, изощренным оскорблением? Елизаров гладил зардевшуюся свою щеку и, не зная, к какому решению склониться, смотрел то на меня, то на мой уд. Разумеется, я тут же извинился перед Елизаровым, которого всегда уважал за благородство и прекрасные душевные качества. Конфуз был совершенно исчерпан, но вот какого слона из мухи раздули господа клеветники!
Я не сомневался, что главным недоброжелателем и источником клеветнических слухов обо мне был не кто иной, как поручик Тонкоруков. Между нами еще в Петербурге пробежала черная кошка, когда Тонкоруков еще только поступил на службу. Прямых поводов для вражды у нас не было, но так бывает: иной раз только взглянешь на человека, и он тебе сразу мил. А иногда – наоборот. Так вот Тонкоруков мне сразу же не понравился: милое личико, лукавый взгляд, светлые кудри. От таких блондинов обычно бывают без ума дамы. Едва я впервые увидел Тонкорукова, сразу же понял – это мелкий пакостник и мы с ним будем врагами. Так оно и вышло. Тонкоруков постоянно говорил за моей спиной всякие колкости обо мне, бывало, подтрунивал надо мной даже и в моем присутствии, но так, чтобы все это легко можно было бы обратить в безобидную шутку и не дать мне повода вызвать его на дуэль.
А теперь у него появился новый повод ненавидеть меня. Опозорившись в деле с кузнечихой, он старался всячески приуменьшить мою доблесть в этом деле и даже старался внедрить в умы гусаров мысль о том, что не он, а мы с ротмистром Щеколдиным чуть ли не бросили тень на честь полка, публично вступив в любовную баталию с низкой простолюдинкой. Тонкоруков никак не мог простить мне своего позора.
* * *
Примерно через неделю после моей баталии с кузнечихой к поручику Тонкорукову приехала из Петербурга в гости его молодая жена. В честь ее приезда поручик давал обед, на который, к моему удивлению, пригласил и меня. Признаться, поначалу я даже расчувствовался, подумав, что и в язвительные сердца приходит раскаяние, что бывает и так на свете – лжет человек, хитрит, козни ближним строит, но выдастся вдруг такая минута, взглянет он в свою душу и устыдится въевшейся в нее низости и лукавства. И устыдившись, скажет самому себе, что не может так жить более, и переменится в лучшую сторону. Может, это случилось теперь и с Тонкоруковым? Так думал я, направляясь к нему на вечеринку. Увы, как показали дальнейшие события, я, конечно, ошибался.