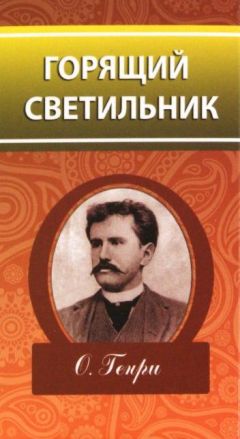Боб молча вошел, улыбнулся, поцеловал ее нежно, но бесшумно, взял газету и уселся читать. В соседней комнате старая дева, вся в страхе, держала наготове свои комочки ваты.
Джесси, занятая приготовлением обеда, выронила нож и подбежала к мужу с испуганными глазами.
— В чем дело, Боб, ты болен?
— Нисколько, дорогая.
— Что же с тобой в таком случае?
— Ничего.
Дорогие читатели! Если женщина спрашивает вас относительно перемены в вашем настроении, то вы не отвечайте ей никогда таким образом. Скажите ей, что вы в припадке гнева убили вашу тещу и что раскаяние гнетет вас; скажите ей, что вы потеряли на бирже все состояние, что вас одолели кредиторы или мозоли; скажите ей все что угодно, только не произносите слова «ничего», если вам хоть немного дорого семейное счастье.
Джесси молча стала накрывать на стол. Она бросала подозрительные взгляды на Боба. Никогда до настоящего времени не проявлял он себя таким образом.
Когда обед был подан, она поставила бутылку пунша и стаканы. Боб отказался пить.
— Сказать тебе правду, Джесси, я бросил пить. Налей себе, если хочешь, пунша, а я выпью только содовой!
— Ты бросил пить? — спросила она, глядя на него в упор и не улыбаясь. — Почему?
— Мне это вредно! — сказал Боб. — Разве ты не одобряешь мое решение?
Джесси слегка подняла брови и одно плечо.
— Вполне, — сказала она с деланной улыбкой. — По совести говоря, я никому не могла бы посоветовать пить, курить или свистать в воскресенье.
Обед закончился почти при полном молчании. Боб старался поддерживать разговор, но ему не хватало тем для разговора. Он чувствовал себя подавленным…
Иногда украдкой он бросал взгляд на бутылку, но каждый раз в его ушах звучали слышанные им слова товарища в баре, и он старался противиться соблазну.
Джесси глубоко ощущала перемену. Казалось, что внезапно пропала вся сущность их жизни. Ложное веселье, неестественное возбуждение, в котором они жили, рассеялось в один миг. Она украдкой бросала любопытные взгляды на удрученного Боба. Тот сидел с виноватым видом.
По окончании обеда Джесси убрала со стола. С безразличным видом она снова поставила на стол бутылку пунша, стаканы и чашу с кусками льда.
— Могу я спросить, — сказала она холодным тоном, — касается ли и меня твое внезапное обращение на путь истины? Если нет, то я себе приготовлю пунш. Не знаю почему, но меня сегодня что-то знобит!
— О, Джесси! — добродушно сказал Боб. — Не будь ко мне слишком строга. Выпей сама, если тебе хочется. Для тебя нет опасности, что ты выпьешь лишнее. Я же последнее время не знал меры, а потому решил бросить. Выпей стаканчик, а затем достань банджо и сыграй новый танец.
— Я слышала, — сказала Джесси, — что пить в одиночку очень вредная привычка. Кроме того, я не чувствую себя сегодня в настроении играть. Если мы собираемся переделывать нашу жизнь, то мы должны бросить и дурную привычку играть на банджо.
Она взяла книгу и уселась в плетеную качалку по другую сторону стола. С полчаса никто из них не проронил ни слова.
А затем Боб отложил газету и встал с странным отсутствующим выражением в глазах. Он подошел к ее стулу сзади и, протянув руки через ее плечо, взял ее руки и приложил лицо к ее щеке.
В тот же миг перед глазами Джесси исчезли стены меблированной комнаты, и она увидела перед собою селливанские горы и ручьи. Боб почувствовал, как дрогнули ее руки, когда он начал декламировать стихи из Омара:
Приди! мы наполним заздравные чаши,
В весеннее пламя мы ввергнем печаль,
Забудем страданья, сомнения наши,
Умчимся мечтами в волшебную даль!
А затем он подошел к столу и налил себе стакан.
Но в это мгновенье горный ветерок каким-то чудом проник в комнату и сдул весь туман богемы.
Джесси вскочила и швырнула бутылку и стаканы, и они с треском полетели на пол. Другую руку она обвила вокруг шеи Боба и крепко прижалась к нему.
— О нет, Бобби, не эти строки из Омара нужно было тебе прочесть. Я не всегда была такой дурочкой, как теперь, не правда ли? Скажи мне другой стих, дорогой, тот, где говорится, что «мы заново жизнь, как чертог, перестроим»’. Скажи мне его.
— Да, я его помню, — сказал Боб. — Он начинается так:
Когда мы любовь хорошенько усвоим
И жизни глубокую правду поймем,
Мы заново жизнь, как чертог, перестроим,
— Дай, я закончу, — сказала Джесси:
А прежнюю всю в черепки разобьем!
— Она уже разбита в черепки, — сказал Боб, раздавливая битое стекло.
В нижнем этаже хозяйка меблированных комнат, миссис Пикенс, уловила своим чутким ухом звон битого стекла. Она стала жадно прислушиваться.
— Опять этот необузданный мистер Баббит вернулся домой под мухой, — сказала она. — А у него такая милая, маленькая женушка! Как мне ее жаль!
Перевод М. Лорие
— Восемьдесят первая улица… Кому выходить? — прокричал пастух в синем мундире.
Стадо баранов-обывателей выбралось из вагона, другое стадо взобралось на его место. Динг-динг! Телячьи вагоны Манхэттенской надземной дороги с грохотом двинулись дальше, а Джон Перкинс спустился по лестнице на улицу вместе со всем выпущенным на волю стадом.
Джон медленно шел к своей квартире. Медленно, потому что в лексиконе его повседневной жизни не было слов «а вдруг?». Никакие сюрпризы не ожидают человека, который два года как женат и живет в дешевой квартире. По дороге Джон Перкинс с мрачным, унылым цинизмом рисовал себе неизбежный конец скучного дня.
Кэти встретит его у дверей поцелуем, пахнущим кольдкремом и тянучками. Он снимет пальто, сядет на жесткую, как асфальт, кушетку и прочтет в вечерней газете о русских и японцах, убитых смертоносным линотипом. На обед будет тушеное мясо, салат, приправленный сапожным лаком, от которого (гарантия!) кожа не трескается и не портится, пареный ревень и клубничное желе, покрасневшее, когда к нему прилепили этикетку: «Химически чистое». После обеда Кэти покажет ему новый квадратик на своем лоскутном одеяле, который разносчик льда отрезал для нее от своего галстука. В половине восьмого они расстелят на диване и креслах газеты, чтобы достойно встретить куски штукатурки, которые посыплются с потолка, когда толстяк из квартиры над ними начнет заниматься гимнастикой. Ровно в восемь Хайки и Муни — мюзик-холлная парочка (без ангажемента) в квартире напротив — поддадутся нежному влиянию Delirium Tremens[7] и начнут опрокидывать стулья, в уверенности, что антрепренер Гаммерштейн гонится за ними с контрактом на пятьсот долларов в неделю. Потом жилец из дома по ту сторону двора-колодца усядется у окна со своей флейтой; газ начнет весело утекать в неизвестном направлении; кухонный лифт сойдет с рельсов; швейцар еще раз оттеснит за реку Ялу[8] пятерых детей миссис Зеновицкой; дама в бледно-зеленых туфлях спустится вниз в сопровождении шотландского терьера и укрепит над своим звонком и почтовым ящиком карточку с фамилией, которую она носит по четвергам, — и вечерний порядок доходного дома Фрогмора вступит в свои права.
Джон Перкинс знал, что все будет именно так. И еще он знал, что в четверть девятого он соберется с духом и потянется за шляпой, а жена его произнесет раздраженным тоном следующие слова:
— Куда это вы, Джон Перкинс, хотела бы я знать?
— Думаю заглянуть к Мак-Клоски, — ответит он, — сыграть партию-другую с приятелями.
За последнее время это вошло у него в привычку. В десять или в одиннадцать он возвращался домой. Иногда Кэти уже спала, иногда поджидала его, готовая растопить в тигеле своего гнева еще немного позолоты со стальных цепей брака. За эти дела Купидону придется ответить, когда он предстанет перед Страшным судом со своими жертвами из доходного дома Фрогмора.
В этот вечер Джон Перкинс, войдя к себе, обнаружил поразительное нарушение повседневной рутины. Кэти не встретила его в прихожей своим сердечным аптечным поцелуем. В квартире царил зловещий беспорядок. Вещи Кэти были раскиданы повсюду. Туфли валялись посреди комнаты, щипцы для завивки, банты, халат, коробка с пудрой были брошены как попало на комоде и на стульях. Это было совсем не свойственно Кэти. У Джона упало сердце, когда он увидел гребенку с кудрявым облачком ее каштановых волос в зубьях. Кэти, очевидно, спешила и страшно волновалась, — обычно она старательно прятала эти волосы в голубую вазочку на камине, чтобы когда-нибудь создать из них мечту каждой женщины — накладку.
На видном месте, привязанная веревочкой к газовому рожку, висела сложенная бумажка. Джон схватил ее. Это была записка от Кэти:
«Дорогой Джон, только что получила телеграмму, что мама очень больна. Еду поездом четыре тридцать. Мой брат Сэм встретит меня на станции. В леднике есть холодная баранина. Надеюсь, что это у нее не ангина. Заплати молочнику 50 центов. Прошлой весной у нее тоже был тяжелый приступ. Не забудь написать в Газовую компанию про счетчик, твои хорошие носки в верхнем ящике. Завтра напишу. Тороплюсь.