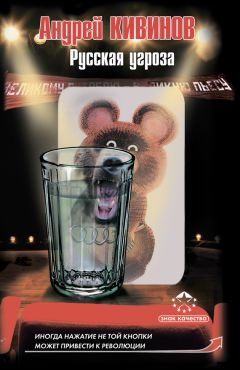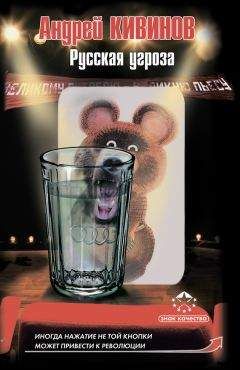— Погоди, — поправил Паша, — Степаныч глотку сорвал, он фонариком мигнет. Предупредил.
— Да это без разницы.
— Ну в общем да… Ну что, Максик?
Они посмотрели на меня как цирковые медведи, ожидающие сахарку. С той лишь разницей, что у медведей глаза добрее.
Отказать я не смог. В конце концов, отпор я дал, а нажать кнопку — это не к «Пяти углам» за бутылкой бежать. Спектакль можно и со второго отделения посмотреть. Да и не Ленин меня на самом деле интересует, а атмосфера. И возможность лишний раз засветиться перед режиссером. Чтобы он подумал — вот, все водку пьют, а этот — проникается.
— Ну, в принципе… Можно.
— Спасибо! Спасибо, братишка… Мы мигом. Я на Мира, Леха к «Пяти углам». Тебе взять чего-нибудь?
— Нет… Я подшит.
— Гонишь!
Молча поднимаю свитер и рубашку и показываю шрам от фурункула. В армии заработал. Но чисто внешне он напоминает вшитую ампулу.
Бобры уважительно кивают и быстро натягивают куртки поверх рабочих спецовок.
— Давай, Макс! Белая кнопка по центру. Больше ничего не жми. Потом слезай и иди смотреть спектакль. Только Степанычу про нас не говори.
Верховые, отодвинув меня от двери, исчезают.
Что ж… Может, оно и к лучшему. Получу еще один профессиональный навык. И в анкете при поступлении укажу — работал не только монтировщиком, но и верховым. Глядишь, зачтется.
Двигаюсь по уже знакомому маршруту. Днем я изучил лабиринты и довольно неплохо ориентируюсь. Строгие мужчины в костюмах провожают меня подозрительным взглядом, но никто не тормозит — я излучаю уверенность.
Дохожу до распределительного щита и лестницы. Ого. Она метров шесть высотой. Но я не боюсь высоты. Забираюсь в скворечник. Это площадочка метр на полтора с перилами и двумя приваренными к полу сиденьями. Сиденья вращаются — удобно. Занимаю рабочее место, осматриваюсь. Сороковаттка освещает пульт. Он закрыт металлическими створками, словно дверцами.
Я протягиваю руку, чтобы открыть их, но вздрагиваю от грянувшей со сцены музыки. «Вихри враждебные». Слышимость здесь не очень хорошая, и ничего не видно. Мешает специальный занавес. Но ничего. Как только я выполню свою миссию, сразу проберусь поближе.
Главное — не пропустить условный сигнал. Внизу тоже всего одна лампочка.
Спектакль начинается. Я не очень хорошо слышал голоса, однако ленинскую картавость различал. Актеры играли без микрофонов, но акустика в здании прекрасная.
Минут десять я напряженно пялюсь вниз, боясь пропустить сигнал. И вот, наконец, мелькнула тень. Блеснули линзы очков. Помреж! С фонариком. Я свешиваюсь с перил и махаю тому рукой. Черт! Похоже, он меня узнает. А мужики просили ему не говорить. Придется соврать, что я был в скворечнике третьим. Изучал азы профессии. Это можно только приветствовать.
Виктор Степанович поднимает руку и мигает фонарем.
Все! Настал мой час! И я не подведу!
Откидываю крышки с пульта и…
…Замираю, словно человек, вместо Брежнева увидевший на трибуне Дворца съездов американского президента Рональда Рейгана. Словно Аполлон на козырьке театра. Словно Ленин в Мавзолее. Словно памятник развитому социализму.
На пульте ЧЕТЫРЕ БОЛЬШИЕ БЕЛЫЕ КНОПКИ!
НЕ ТРИ, А ЧЕТЫРЕ! Металлические, сильно потертые от многочисленных нажатий. ЧЕТЫРЕ!
И, соответственно, определить, которая из них посередине, не смог бы и профессор математики. И даже Альберт Эйнштейн.
И вряд ли получится нажать обе одновременно. Стало быть, придется выбирать.
А фонарик опять мигает. Можно, конечно, крикнуть и спросить, но тогда братьев-бобров подставлю.
Хотя не грех и подставить… Алкаши. Допились до того, что не могут три от четырех отличить.
Остается один подсказчик. Бог. Он сам направит мой палец на нужную кнопку. Если, конечно, он ко мне милостив. Одно успокаивает — в зале спящие курсанты, если ошибусь — не заметят.
Закрываю глаза и кладу длань на пульт. Есть. Третья снизу, она же вторая сверху. Глубоко вдыхаю и жму.
Внизу заурчал двигатель, закрутились барабаны, поползли тросы. Задник пошел вниз.
Я осторожно выглядываю из-за перил. Фонарик исчез, стало быть, Виктор Степанович ушел. Все, миссия выполнена. Теперь можно спускаться и идти смотреть на спектакль, к которому ты, в общем-то, тоже приложил руку. Точнее, палец. Чем можно гордиться.
Спускаться не так просто, как подниматься. Все-таки шесть метров, а лестница с явными дефектами. Ремонт бы не помешал.
Но я не упаду — Бог меня любит. Иначе бы я нажал не ту кнопку, и помреж не ушел бы, а остался и мигал фонариком.
Хотя…
Он же не видит, что происходит на сцене, а стало быть…
Раскат грома донесся до моих ушей примерно на середине спуска. Нет. Это не гром. Это смех. И какой-то нехороший смех… Над репризами или шутками так громко не смеются. А если и смеются, то не все… А здесь полное единодушие. Да и вряд ли в спектакле про Ленина уместны репризы. Это не «Кабачок 13 стульев».
И когда моя правая нога опускается на твердь, я понимаю, что Бог, наверное, не любит меня. Странно. Я, конечно, не ангел, но и козлом себя бы не назвал.
На фоне нового раската грома со стороны сцены ко мне приближается Виктор Степанович. И не просто приближается. И не просто Виктор Степанович.
Он бежит ко мне, подняв правой рукой фонарик, словно Чапай саблю, а левой срывая шарф. А на лице непередаваемая словами игра чувств, как пишут в пьесах и сценариях. Я бы мог все же передать, но только не сейчас. Ибо чувства помрежа из разряда крайне отрицательных. Вместо рта говорят его глаза. Сейчас они размером не с пуговицу, а, как минимум, с юбилейный рубль. И без очков. Говорят очи всего одно слово. Матерное. Из шести букв. Похожее на «огурец», но более жесткое. Из чего следует, что у меня один выход. Уносить ноги. Инстинкт спасения лица от побоев не ошибается.
И переводить стрелки на братьев-бобров бессмысленно. Виктор Степанович видел меня на верхотуре, а сейчас застал на лестнице. Ответ на вопрос «Какая сволочь нажала не ту кнопку?» однозначен. Эту кнопку нажал новенький монтировщик сцены Максим с простой фамилией Светлов.
Спрыгнув с лестницы, бегу в противоположную от помрежа сторону. Там есть маленький коридор, ведущий на черную лестницу. Несусь не оборачиваясь, ибо смотреть второй раз на лицо помощника режиссера врагу не пожелаешь. Окаменеешь.
Вот и лестница! Придерживаясь правой рукой за перила, прыгаю вниз через три ступеньки. Получаю небольшую фору — молодость побеждает опыт. Первый пролет, второй! Дорога известна — по ней мы таскали декорации.
Все! Последний пролет. На финише я сбиваю с ног мужика в костюме. Чего он тут торчит — шел бы Ленина смотреть! Подняться он не успевает — Виктор Степанович снова посылает его в партер! Ну прям «Ну, погоди!», только веселой музычки не хватает.
Слышу за спиной крик: «Всем стоять! КГБ!»
Хорошая шутка. Надо запомнить.
Направо, налево, опять направо! Лишь бы черный ход был не на замке!
Он не просто был на замке, но у дверей несла вахту сразу пара мужиков в костюмах, и вряд ли это портье.
Придется в обход, через центральный вход. Дорогу помню не очень, но в критические минуты мозг включает дополнительные резервы. И он подсказывает, что у меня один путь — через фойе.
Очередной раскат хохота доносится из зала. Это уже не просто хохот, это истерика натуральная!
Блин, что же за задник я опустил?!
Выскакиваю в фойе. Мужиков в костюмах у дверей нет. Бабулек-программисток нет. Одна выходит из зала, зажимая рот платком.
Я проношусь мимо пустующего буфета, скатываюсь по ступеням мимо гардероба, с которого начинается театр. Навстречу попадаются гардеробщицы, спешащие узнать, над чем истерически рыдает публика. Никогда такого не было!
Виктор Степанович безнадежно отстал. Либо свернул в зал, не удержавшись от соблазна взглянуть на происходящее.
Черт! Моя куртка осталась в подсобке. А на улице не май месяц, первые снежинки кружат в воздухе. Ничего, завтра заберу. Или попрошу Олега вынести.
С очередным раскатом грома-смеха выскакиваю на вечернюю улицу, замечаю два ряда черных «Волг» и «ЗИМов», аккуратно припаркованных возле театра, нарываюсь на возвращающихся братьев-бобров, с какой-то тревожной подозрительностью смотрящих на меня, и мчусь по Невскому в направлении ближайшей станции метро.
«Пятачка» нет, но я перепрыгиваю через турникет. И даже на эскалаторе до меня долетают звуки совершенно искреннего, неподдельного заразительного смеха, коего стены большого-академического-драматического не слышали долгие годы.
А может, не слышали и вообще…
* * *
Хорошо, что я записал домашний телефон Олега. Тем же вечером, точнее, ночью я позвонил ему. Он не спал. Услыхав мой упаднический голос, приветствовал простым русским словом, созвучным с нотой «ля». Слово сие имеет различное значение. В зависимости от интонации. Сейчас оно означало: «Ты, конечно, крутой парень, но у тебя будут серьезные проблемы». Видимо, опасаясь, что телефон уже прослушивают, быстро свернул разговор, предложив встретиться утром, до начала смены, перед театром.