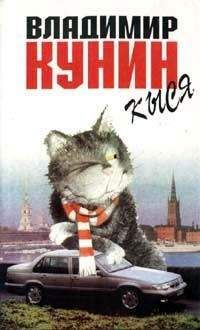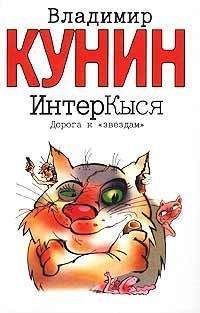Тут Пилипенко залпом опрокинул в рот оставшееся в бокале шампанское, вынул длинную зажженную свечу из высокого золотого подсвечника, закусил ею с полыхавшего конца, и хрястнул бокал об пол в мелкие дребезги…
А потом истово перекрестился четыре раза – один раз слева направо, второй – справа налево, третий – как-то наискосок, а четвертый умудрился перекреститься – снизу вверх!
Зал так и ахнул!.. Но на этом выступление Пилипенко не кончилось.
Он плавно выполз из-за стола и, приплясывая, поводя плечами и широко разводя руками в стороны, в танце поплыл между банкетными столами.
Ко всему прочему, он пел. Нещадно перевирая мотивы, он аккомпанировал сам себе, наиболее близкими его сердцу песнями, сливая их воедино:
Боже, Царя храни!
Сильный, державный…
Вставай, проклятьем заклейменный
Союз нерушимый республик свободных!
Гремя огнем, сверкая блеском стали
В лесу родилась Сарочка, В лесу она росла,
Зимой и летом черная Жидовочка была…
* * *
– Боже мой! Мистер Президент! Он же сошел с ума!.. – закричал кто-то из наших российских депутатов на очень неплохом английском языке. – Пожалуйста, распорядитесь вызвать врача!..
– И полицию! – достаточно громко потребовала вдруг Челси.
Я попытался привстать, но почувствовал, что лапы мои подламываются от полного и дикого опустошения! Я только успел сказать:
– Полицию – для него, а врача – для меня…
И без чувств упал на руки Президента.
Сокс мне потом рассказывал, что, после того как меня нафаршировали кучей лекарств ободряющеуспокаивающего действия, первую половину ночи я метался во сне, вскрикивал, разговаривал на всех языках – по-Шелдрейсовски, по-Животному, мешал русский с испанским, немецкий с английским и даже пытался говорить на идиш пополам с ивритом…
А вторую половину – спал серьезно, внимательно и сосредоточенно. Изредка нервно подрагивал хвостом, непроизвольно дергал задними лапами и частенько поплакивал во сне…
Когда мы с ним сопоставили мое бессознательное поведение с тем, что мне снилось в первую половину, а потом и во вторую половину ночи, то это мое соннообморочное состояние нашло точное подтверждение.
Как сейчас помню – всю первую половину я задыхался от кошмаров!..
Я с ужасом бродил – по какому-то незнакомому мне старопетербургскому двору-колодцу…
Двор был весь пересечен вкривь и вкось натянутыми веревками… А на этих веревках, на специальных ПИЛИПЕНКОВСКИХ распялочках висели и сушились ШКУРКИ ВСЕХ МОИХ ЗНАКОМЫХ КОТОВ, КОШЕК И СОБАК!..
Вот шкурка той самой рыжей поблядушки, с которой все и началось еще на пустыре у нашего с Шурой дома в Ленинграде…
Вот шкурка моего самого закадычного дружка Бесхвостого Кота-Бродяги…
Висели на распялках, сколько глаз видит, сотни шкурок, содранных с Кошек, с которыми я когда-либо вступал в интимные отношения…
Из некоторых шкурок даже запах этих несчастных Кошек еще не выветрился!.. Например, в шкурке той французской Кошечки Лолы, которую я оприходовал в кустиках автозаправочной станции на автобане Гамбург-Мюнхен, сохранился даже запах ее французских духов!..
Боже мой!.. А это-то что?! Какой кошмар!.. Господи!.. Я же сейчас сойду с ума!.. На нескольких веревках я увидел распялки с Собачьими шкурами, в которых узнал всех близких мне Собаков!!!
Вот маленькая, чистенькая коричневая гладенькая шкурка карликового Пинчера Дженни из Грюнвальда, с которой у меня был такой нежный роман…
Вот огромная шкура немецкого полицейского Овчара Рэкса… Как он-то дал себя отловить этой сволочи Пилипенко?!
Мамочки родные! Тут и Крольчиха, которую я сдуру трахнул в Оттобруне! А вот висит роскошная, но МЕРТВАЯ шкура Лисицы! Бедной и гордой и так влюбленной в меня Лисицы…
Какой ужас! Боже мой… Значит, они все мертвы?!
А это еще что?!! Откуда здесь, в петербургском дворе, висят шкурки моих новых знакомых американцев – Кота Хемфри, бывшего сотрудника публичной библиотеки Нью-Йорка?! А вот на распялке шкурка этой Беленькой, Пушистенькой из Квинса, последние дни жившей у мистера Бориса Могилевского. Она же готовилась стать МАТЕРЬЮ МОИХ КОТЯТ!..
А когда на соседних распялках я увидел старенькую вытертую шкуру пожилого еврейского Собака Арни-Арона из Брайтона и черно-белую Шкурку Первого Кота Америки Сокса, я чуть вообще с ума не сошел!!!
Сволочи, сволочи, сволочи!.. Антисемиты, подонки, мерзавцы!.. Злобные, безжалостные, омерзительные твари! НеЛюди!.. Где вы – Пилипенко, Васька?!
Господи! Боже мой, Всемилостивейший!.. Помоги мне, Господи, пережить все это!..
Сотвори чудо, дай мне хоть ненадолго стать величиной с ТИГРА! Я не хочу БЫТЬ ТИГРОМ, пойми меня, Господи… Я хочу остаться САМИМ СОБОЙ, КОТОМ МАРТЫНОМ, КЫСЕЙ, наконец! Но я хочу отловить Пилипенко и Ваську… Я не буду сдирать их вонючие, пропитанные алкоголем, невежеством и подлостью шкуры… Я ПРОСТО РАСТЕРЗАЮ ИХ В МЕЛКИЕ КЛОЧЬЯ И РАЗБРОСАЮ ОКРОВАВЛЕННЫЕ КУСКИ ИХ НЕЧЕЛОВЕЧЬЕГО МЯСА И КОСТЕЙ ТАК ДАЛЕКО В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, ЧТОБЫ НИ ОДИН ДОКТОР НИКОГДА НЕ СМОГ БЫ СОБРАТЬ ИХ В ЖИВУЮ ПЛОТЫ ЧТОБЫ ДАЖЕ ПЯТИСОТЛЕТНИЙ ВЕЛИКИЙ ИСПАНСКИЙ ВРАЧ И ФИЛОСОФ МАЙМОНИДЕС НИКОГДА НЕ СМОГ БЫ ИМ ПОМОЧЬ ВОЗРОДИТЬСЯ ЗАНОВО!!!
И вот тут, наверное, наступила вторая половина ночи. Потому что пошло что-то связанное с Маймонидесом…
Но сначала я увидел, как Шура выходит из своего Нью-Йоркского дома на Оушен-авеню, прощается с Собаком Арни, и слышу, как он говорит Арни, что сейчас едет в Нью-Джерси, в порт Элизабет, встречать своего ближайшего друга. И понимаю, что речь идет обо мне…
Потом вижу Шуру на автобусной остановке…
Он стоит один-одинешенек, ждет прихода автобуса и поглядывает на часы.
А потом вдруг начинает задыхаться, растерянно оглядывается по сторонам, никого не видит и медленно опускается на скамейку, стоящую у автобусной остановки…
Он расстегивает теплую куртку… Слабеющими пальцами пытается оттянуть ворот свитера, чтобы вздохнуть поглубже, но это ему не удается…
Смертельная бледность, посиневшие губы…
Шура осторожно ложится на скамейку, одна рука безвольно свешивается на асфальт…
– Шурочка-а-а-а!!! – беззвучно ору я откуда-то…
– Мартышка… – слабым голосом еле произносит Шура. – Я, наверное, опоздаю… Ты подожди меня…
И отключается. А автобуса все нет и нет!..
И никого около остановки. Только двое черных мальчишек лет по четырнадцати и смуглый высокий парень, года на два постарше тех двух, подходят к скамейке, где лежит Шура.
Смуглый смотрит, смотрит по сторонам, а двое черных пацанов выворачивают все Шурины карманы: деньги, документы, все, все, все!..
И улетучиваются. Будто их никогда и не было…
А Шура лежит недвижимый, и я не могу ему ничем помочь, потому что, наверное, Я ЕЩЕ В МОРЕ, ТОЛЬКО НА ПОДХОДЕ К НЬЮ-ЙОРКУ…
Но тут я вижу, как к остановке подходит автобус и из него вылезают Люди. Некоторые считают Шуру пьяненьким, усмехаются и расходятся. А несколько пожилых Человеков убеждаются, что от Шуры не пахнет спиртным (хорошо, что он с вечера "на грудь" не принял, думаю я…), и бегут куда-то звонить. А две старушки остаются с Шурой…
Вижу, через несколько секунд подкатывает что-то типа нашей "Скорой помощи", выскакивают врачи, минуту колдуют над лежащим на скамейке Шурой – уколы, капельница, кислород…
А потом грузят Шуру в машину и увозят.
И старики, гордые своим выполненным Человеческим долгом, говорят друг другу:
– К "Маймонидесу" повезли…
– Это прекрасно! "Маймонидес" – это, я вам скажу, то, что надо!
– Ежели за больного человека берется "Маймонидес", так уже можно быть спокойным.
– Но почему он без всяких документов?! Ни "сошиал секюрити", ни "медикейда", ни "велферной карточки"?.. Что за манера выходить из дому без документов? А если что-нибудь? Вот как сейчас!..
– Ну вы же видели, это молодой человек. Тридцать, от силы – тридцать пять! Откуда ему быть серьезным?! Я дико извиняюсь, но в таком возрасте, как говорится, в поле – ветер, в жопе – дым…
– Странно, такой молодой, и уже, пожалуйста вам, – сердце…
А мимо этой Брайтонско– Бруклинской автобусной остановки, мимо той милой компании американских стариков, говорящих по-русски с неистребимым южнымv акцентом и вовремя отправивших моего Шуру в больницу к старику Маймонидесу, мимо шли…
Ну вот кто бы вы подумали?!!
ПИЛИПЕНКО И ВАСЬКА!!! В смокингах, почему-то босиком, с закатанными по колени брюками, с огромными сачками для отлова Котов!..
Они шли и на ходу жевали длинные зажженные свечи из Банкетного зала Белого Дома. Откусывали они эти свечи с зажженного конца, сжирали откусанное вместе с пламенем свечи, но как только остаток свечи отнимали ото рта, так свечи сами вспыхивали вновь каким-то адским, синим пламенем!..