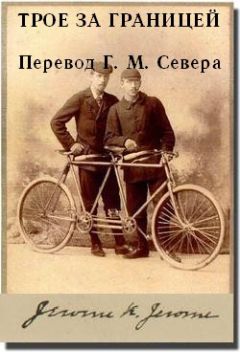Ознакомительная версия.
Я улыбнулся черному джентльмену и сказал, что, похоже, купе нам досталось двоим; он засмеялся, отметив, что некоторые делают из мухи слона. Но даже он стал приходить в загадочное уныние, когда мы тронулись, и я, уже около Крю, предложил сходить выпить. Он согласился, и мы протолкались в буфет, где в продолжение четверти часа вопили, топали, махали зонтиками, после чего, наконец, объявилась молодая особа и спросила, не надо ли нам случайно чего.
— Вам что? — спросил я, обернувшись к другу.
— Прошу вас, мисс, на полкроны чистого бренди, — отвечал он.
И, выпив свой бренди, он тихонько перебрался в другое купе, что с его стороны было просто уже бесчестно.
За Крю я располагал купе целиком, хотя в поезде было битком. Когда мы останавливались на станциях, народ, увидев мое пустое купе, ломился в него. «Ну-ка, Мария, сюда, сюда! Тут полно места!», «Ага, Том, давай-ка, давай, шевелись!» — кричали они. И они бежали, с тяжелыми сумками, и дрались у дверей, чтобы забраться первыми. И кто-нибудь открывал дверь, и залезал на подножку, и падал в объятия стоящего за спиной. И все они врывались, нюхали, выползали и протискивались в другие купе (или доплачивали и ехали первым классом).
С Юстонского вокзала я отвез сыр домой к приятелю. Его жена, войдя в комнату, с минуту принюхивалась. Потом сказала:
— Что это? Не скрывайте, не скрывайте от меня ничего.
Я сказал:
— Это сыр. Том купил его в Ливерпуле и попросил привезти с собой.
И я добавил, что, надеюсь, она понимает, что я здесь совсем ни при чем. Она сказала, что в этом уверена, но с Томом, когда он вернется, на этот счет еще побеседует.
Мой приятель задержался в Ливерпуле дольше, чем ожидал. И три дня спустя, когда он так и не возвратился, его благоверная прибежала ко мне. Она спросила:
— Вам Том что-нибудь говорил насчет этого сыра?
Я ответил, что он распорядился держать его в прохладном месте и чтобы до него никто не дотрагивался.
— Ну это вряд ли... Он его нюхал?
Я ответил, что, видимо, да, и добавил, что сыр этот, похоже, ему очень дорог.
— Вы думаете, он расстроится, — спросила она, — если я дам соверен, чтобы его увезли и где-нибудь закопали?
Я сказал, что, думаю, на лице Тома больше никогда не засияет улыбка.
Тут ее осенила идея. Она предложила:
— А может быть, он пока полежит у вас? Давайте я его вам пришлю!
— Сударыня, — отвечал я. — Лично я люблю запах сыра, и на обратную поездку из Ливерпуля в тот день всегда буду оглядываться как на счастливое завершение приятного отпуска. Но в этом мире мы должны считаться с другими. Леди, под чьим кровом я имею честь проживать, — вдова и, не исключено, может быть, сирота. Она решительно, я бы сказал — красноречиво возражает против того, чтобы ее, как она говорит, «водили за нос». Присутствие сыра, принадлежащего вашему мужу, в ее собственном доме она, как я чувствую инстинктивно, расценит именно таким образом. Но да не будет сказано никогда, что я вожу за нос вдов и сирот!
— Ну что же тогда, — вздохнула жена моего приятеля, поднимаясь. — Все, что могу сказать, — я забираю детей и переезжаю в гостиницу, пока этот сыр не съедят. Я отказываюсь находиться с ним под одной крышей.
Она сдержала слово, оставив жилье на попечение домработницы, которая, когда ее спросили, может ли она выдержать запах сыра, спросила в ответ «Какой такой запах?» и которая, когда ее подвели к сыру и приказали нюхнуть как следует, заявила, что чувствует слабый аромат дыни. Отсюда было сделано заключение, что данная атмосфера значительного вреда ей не причинит, и ее оставили.
Счет за гостиницу составил пятнадцать гиней; мой друг, подсчитав все расходы, обнаружил, что сыр обошелся ему в восемь шиллингов и шесть пенсов за фунт. Он сказал, что, хоть и любит сыр горячо, такой сыр ему не по средствам. И он решил избавиться от него. Он выбросил сыр в канал. Но продукт пришлось выловить, потому что лодочники с барж стали жаловаться. Они говорили, что у них начались обмороки. Тогда после этого одной темной ночью он взял сыр и оттащил в приходской морг. Но следователь по убийствам этот сыр обнаружил и устроил страшную суету. Он заявил, что это какие-то козни — его хотят оставить без хлеба и воскрешают покойников.
Мой друг наконец избавился от этого сыра, забрав в приморский городок и закопав там на берегу. Местечко приобрело сущую славу. Приезжие говорили, что никогда не замечали раньше, какой здоровый здесь воздух. Хилогрудые и чахоточные толпились там потом несколько лет.
Поэтому, как бы я сыр ни любил, я признал, что Джордж прав, отказываясь брать с собой даже кусочек.
— Чая у нас не будет, — сказал Джордж (здесь лицо Гарриса омрачилось). — Но будет обильная, сытная, славная, шикарная трапеза в семь — обед, чай и ужин сразу.
Гаррис приободрился. Джордж предложил пирог с мясом, пирог с фруктами, холодное мясо, помидоры, фрукты и зелень. Для питья мы берем некую диковинную липкую субстанцию, которую приготовляет Гаррис (вы разбавляете ее водой и называете лимонадом), вдоволь чая и бутыль виски — на тот случай, как заявил Джордж, если мы перевернемся.
Кажется мне, Джордж слишком много твердит о том, что мы можем перевернуться. Кажется мне, с таким настроением отправляться в дорогу нельзя.
Но я рад, что мы берем виски.
Ни пива, ни вина мы с собой не берем. Брать их с собой на реку — ошибка. От них сонливо и тупо. Принять стаканчик-другой, слоняясь по городу и глазея на девушек, очень даже неплохо. Но не вздумайте пить, когда солнце печет голову, а впереди — тяжкий труд.
Прежде чем распрощаться, мы составили список вещей, которые будем брать. Список получился длиннехонький. Назавтра (в пятницу) мы свезли весь перечень в одно место и вечером собрались, чтобы уже паковаться. Мы раздобыли большой кожаный саквояж для одежды и пару корзин для продовольствия и посуды. Сдвинув стол к окну, мы высыпали все барахло посреди комнаты, расселись вокруг и стали на эту кучу глазеть.
Я сказал, что упаковкой займусь сам.
Я весьма горжусь тем, как это у меня получается. Упаковка — одна из тех многих вещей, в которых я смыслю больше кого бы то ни было. (Меня порой удивляет, как много таких вещей существует.) Я внушил данный факт Джорджу и Гаррису и заявил, что им лучше передать все дело мне целиком. Они встретили предложение с какой-то странной готовностью. Джордж закурил трубку и развалился в кресле, а Гаррис взгромоздил ноги на стол и запалил сигару.
Это было вовсе не то, на что я рассчитывал. Я-то, понятное дело, имел в виду, что буду руководить работой, то есть чтобы Джордж с Гаррисом под моим началом гоняли лодыря, а я их то и дело отпихивал: «Эх вы...» — преподавая им, так сказать, урок подлинного мастерства. А то, как они сориентировались, меня просто взбесило. Меня больше ничего так не бесит, чем зрелище человека, который сидит и ничего не делает, когда что-то делаю я.
Как-то раз я жил с человеком, который доводил меня таким образом просто до бешенства. Развалится себе на диване и будет таращиться день напролет, как я занимаюсь делами; будет водить за мной глазами по комнате, куда бы я ни направился. Он говорил, что моя возня действует на него поистине благотворно. Он говорил, что она заставляет его осознавать факт, что жизнь — не праздная дрема, чтобы проводить ее зевая и изнывая от скуки, но благороднейшая задача, полная долга и суровой работы. Он говорил, что теперь часто задается вопросом: как же он коротал свои дни прежде, еще не встретив меня и не имея возможности наблюдать за тем, как кто-то работает?
Нет, я не таков. Я не могу сидеть сиднем и наблюдать, как кто-нибудь надрывается. Мне нужно встать, мне нужно руководить, мне нужно ходить вокруг, засунув руки в карманы, и говорить ему что и как. У меня деятельная натура. Тут уж ничего не поделаешь.
Однако я смолчал и стал паковаться. Пришлось потрудиться больше, чем я сначала предполагал, но с саквояжем я все-таки справился, уселся верхом и перетянул ремнем.
— А ботинки ты не собираешься класть? — спросил Гаррис.
Я оглянулся и обнаружил, что забыл положить ботинки. Вполне в духе Гарриса. Не мог, конечно, сказать даже слова, пока я не закрыл саквояж и не затянул ремни. А Джордж захихикал — этим своим раздражающим, глупым, придурочным, идиотским хихиканьем. Они оба доводят меня до исступления.
Я открыл саквояж и уложил ботинки. И тут, когда я собрался закрыть его снова, меня осенила ужасная мысль. А зубную щетку я положил?! Просто не понимаю, как оно получается, только я никогда не в курсе, положил я зубную щетку или не положил.
Зубная щетка — такая штука, которая истязает меня в поездках и превращает жизнь в катастрофу. Ночью мне снится, что я забыл ее положить; я просыпаюсь в холодном поту и вскакиваю, чтобы ее отыскать. А утром я кладу ее в чемодан еще не почистив зубы, и мне приходится вываливать все назад, чтобы эту сволочь достать. И каждый раз получается так, что сначала я выверну весь багаж, а она будет самой последней. Потом я уложу все заново, а про нее забуду, и в самый последний момент мне придется мчаться за ней наверх и везти на вокзал завернув в носовой платок.
Ознакомительная версия.