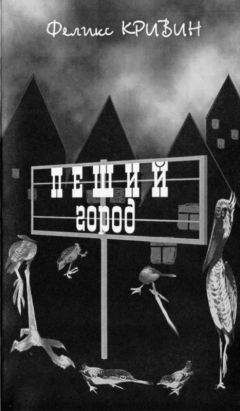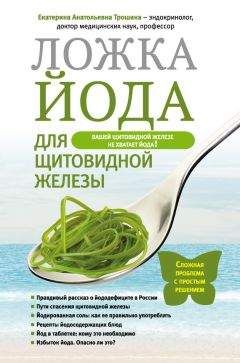Белоглазка пообещала. У нее зрение хорошее, она сразу увидит, когда придет черный день.
Он отдавал ей все, что зарабатывал, а сам перебивался с хлеба на хлеб, а иногда с хлеба на пустое место. Бродя с белоглазкой по белым ночам, он спрашивал:
— Ну, скоро уже этот черный день?
Белоглазка отвечала, что скоро, что черный день уже виднеется вдалеке, и поэт радовался: вот наступит черный день, тогда заживем!
И опять он спрашивал, скоро ли черный день, и опять белоглазка говорила, что вот он, уже совсем близко. И поэт верил ей, потому что у него темнело в глазах от голода.
Темнело, темнело, пока не потемнело совсем.
Хоронили его в черном гробу, увитом черными лентами, за гробом шла черная процессия, и белоглазка шла в новенькой чернобурке, и плакали белоглазкины черные глаза, теперь уже черные глаза…
Они шли по городу Чернигову, по Черняховской улице, и черномазая ребятня сновала у них под ногами. И шумел черный рынок, и черный день давно уже наступил…
Если бы поэт встал из гроба, они бы у него тут все стали белыми. Но он не встал, из гроба не встанешь. В гроб можно только лечь — этим он и отличается от обычной кровати.
* * *
Надгробья в белом, как врачи… Но помощь пришла слишком поздно.
В давние времена в одной богатой и просвещенной стране жили два знатных рода: Велипуты и Лиликаны. Каждый из них считал, что именно он происходит от древнего рода великанов, а от рода лилипутов, кстати, не менее древнего, никто не хотел происходить. Они даже воевали между собой по этому поводу. Интриги плели, доносы писали. Но ничего не могли доказать.
И случилось так, что юноша велипут полюбил девушку лиликаночку. Девочку звали Лиля, а юношу Вассерман.
Оба рода затаили дыхание: у них появился неплохой шанс. Если род велипутов породнится с родом лиликанов, у них может родиться полный великан. Может, конечно, родиться и полный лилипут. Все от любви зависит: большая любовь или маленькая. Велипуты смотрели на Лилю с сомнением: будет ли она любить Вассермана так, чтобы произвести на свет полного великана? А лиликаны качали головой: вряд ли этот заморыш способен на великие дела.
Да и самой Лиле не очень нравился Вассерман. Почему он Вассерман, а не Вася? Разве можно от Вассермана родить что-то большое?
Подруги ее убеждали, что при таком богатстве нельзя не родить богатыря. Если сложить состояния лиликанов и велипутов, то ничего другого просто не получится.
Юноша Вассерман говорил Лиле о своей любви, а она уходила от ответа. Но он не давал ей далеко уйти. От тех, кто любит, далеко не уходят.
И однажды девушка Лиля родила великана от юноши Вассермана. Никто даже не поверил, такой это был великан. И сам Вассерман в глубине души тоже немножко сомневался.
— Мы назовем его Васей! — говорила счастливая мать. — Будет у нас Вася Вассерман.
Сокровище наше, умилялись лиликаны, сокровище наше, умилялись велипуты — и присоединяли его к своим несметным сокровищам.
При таких сокровищах можно было жить спокойно, не думать о завтрашнем дне и даже немножко прикапливать на послезавтра.
Так бы оно, наверно, и было, но тут внезапно раздался звонок.
В этом месте всегда раздается звонок.
Юноша Вассерман проснулся и пошел открывать.
Ему принесли пенсию.
* * *
Идущему нужен добрый конь, а имущему — злая собака.
Ода на восшествие Правды на пьедестал
Вышла Правда в сверкающий зал —
Из забвенья, из тьмы, из тумана.
Отвели для нее пьедестал,
Тот, что раньше служил для обмана.
Натерпелась она на веку,
Надорвала сермяжные жилы,
Ну и хочется быть наверху.
А чего же? Она заслужила.
И она улыбается в зал,
Как всегда, и добра, и желанна…
Возвышает ее пьедестал —
Тот, что раньше служил для обмана
Был в древности город Марафон. Маленький такой городок, но прославившийся тем, что из него жители бегали на очень далекие расстояния.
Может, им не нравилось жить в этом городе. Может, их климат смущал или государственное устройство. От государственного устройства еще и не так побежишь.
Первые километры марафонцы бежали быстро, но постепенно притормаживали. А стоит ли, думали, так быстро убегать от достигнутого? В Марафоне у них уже кое-что достигнуто, а на новом месте еще достигать и достигать.
А тут еще письма стали приходить с финиша. Не так, мол там хорошо, как казалось на старте. Есть свои проблемы, свои неприятности. И такая возникает тоска по старту! Психологи говорят: ностальгия по старту — это известная финишная болезнь.
Сидят они там, на финише, вспоминают:
— А помните, как бывало у нас на старте? Главное — хотелось бежать!
Читают марафонцы эти письма и думают: может, мы неправильно сделали, что побежали со старта? Все-таки старт у нас был неплохой. А если к нему приложить руки, кое-что изменить, доделать, подправить, — никуда и бежать не надо, можно и на старте неплохо жить.
От таких мыслей расстояние между стартом и финишем постепенно сокращалось, а с ним сокращалось расстояние между намеченным и достигнутым. Сокращалось, сокращалось, пока не сократилось совсем. Вот оно, намеченное, а тут же уже и достигнутое. Только наметили — и уже достигли.
Оказывается, главный тормоз в беге — это расстояние. Трудно одновременно и бежать, и преодолевать расстояние, надо выбрать что-то одно. Если из бега исключить расстояние, можно — о-го-го! — какую развить скорость.
* * *
Большие деньги любят вспоминать, как они были маленькими. Эх, вот это была жизнь!
Кочуют деньги по дорогам —
И золотой, и медный грош.
То их скопится слишком много,
То их со свечкой не найдешь.
Подобно им кочуют мысли —
Случайный гость и частый гость.
От денег мысли не зависят,
Они всегда кочуют врозь.
И будет вечно, как бывало
С тех пор, как существует свет:
Где много денег — мыслей мало,
Где много мыслей — денег нет.
И тот, кто сидел в кабаке, говорит, что он сидел за политику.
И тот, кто на дело ходил, говорит, что он ходил на врага. И тот, кто на стреме стоял, говорит, что он стоял за правое дело.
Пришлое прошлое! Его придумало ушлое настоящее, чтобы возвыситься над прочими временами.
Кто только не жаловался на время, что оно идет неправильно. И солдатики, которые стоят на часах, и влюбленные, которые часов не наблюдают, и старики, которым час от часу не легче, и еще очень многие.
Ладно, думает Время, заведу себе часы. С часами не ошибешься. Только глянешь — и сразу видно, когда притормаживать, а когда наращивать темп.
Пришло в часовой магазин. А там — каких часов только нет! Песочные на сахарном песке, чтоб подсластить время, водяные, чтобы разбавить горечь, а в крайнем случае и утопить тоску. Присмотрело золотые часы на бриллиантовых камнях, в жемчужном обрамлении, стало прицениваться. Дороговато! А Часы оказались с боем.
— Ах, тебе дороговато! — бомкают. — А кто нам устроил такую жизнь?
Они как раз с выставки времен. Хотели подобрать что-нибудь поприличней, чтоб не стыдно показывать, но там о приличиях и не заикайся. Одно время — лихое, другое глухое, третье я вовсе плохое, никудышное. А то еще смутное время, вообще ничего не поймешь. И все кивают на Время: это оно, дескать, виновато, это с него все началось. Оно из одного ума выжило, а другого не нажило.
— И такое время мы должны показывать? — растикались Часы. — Да мы сами пойдем по уголовной статье как соучастники.
— Спокойно, спокойно, — говорит Время. — Вы и так пойдете по уголовной статье. Ты посмотри на них, они еще перебирают, что показывать, а что не показывать! А откуда золото, жемчуга, бриллианты, разрешите спросить?
Да, не зря говорят, что время покажет. Оно и вам покажет, и нам покажет. И на кого надо покажет, в случае чего.
Притихли Часы, уже не так нагло тикают.
— Может, — подмигивают, — по-хорошему договоримся?
Что ж, договориться можно. Сколько Время себя помнит, всегда приходилось с кем-то договариваться. Конечно, не без того, чтобы давать впоследствии показания на показательных процессах.
В общем, договорились. Время щеголяет в золотых часах, часы показывают золотое время. Но влюбленные по-прежнему часов не наблюдают, солдатики по-прежнему томятся на часах, а старичкам по-прежнему час от часу не легче.