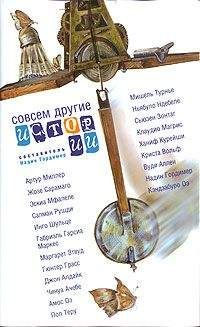– И спросит бармена, нет ли у того билетов в Большой?
– А у него (сказала мама) – раз! – и есть! Ты ведь тоже в пивной нам билеты брала.
Тлетворное влияние Запада
Поговорила я тут с одним выдающимся дирижером.
Он иногда до меня снисходит и кое-что объясняет.
Например, что может во время концерта изменить концепцию, и музыканты должны быть готовы: ибо он прямо во время концерта чувствует иную реальность и до нее, извините, возносится.
Ну, в общем, объяснял мне еще, как структурировать симфонию – оказалось, чисто интеллектуально нужно это делать: говорит, что дурак не сыграет ничего, только разве для профанов.
Ну, это все прелюдия, а дальше байка.
Пошел он, короче, в наш Минкульт как-то.
А там стоят какие-то гопники прямо перед Минкультом – с плакатами:
«Оградим Россию от тлетворного западного искусства!»
Дирижер этот заинтересовался (а у него еще внешность такая – красавец, худой, высокий, руки длинные, с длинными пальцами – вид художественный, парижский, он там и живет, а здесь – наездами).
Ну и говорит гопнику, вежливо так:
– От кого вы хотите оградить Россию – от Шуберта, Брамса, Вагнера?
Гопник заморгал глазами (он за три рубля стоит и имен этих явно не слышал).
Дирижер продолжает:
– Так вы, молодой человек, возможно, за то, чтобы аутентично исполняли Чайковского, Скрябина, Шнитке?
Тот опять поморгал глазами и выдавил из себя:
– Мы против того, что ниже пояса!
Дирижер говорит наставительно:
– Тем, что ниже пояса, занимаются проктологи, гинекологи и иногда венерологи. Так что вам нужно там стоять – около вендиспансера, к примеру.
Гопник вдруг говорит растерянно:
– Значит, мы не там стоим?
– Не там (подтверждает дирижер).
Гопник вдруг говорит:
– Ребят, айда, адрес перепутали!
И они сворачивают свои транспаранты и уходят.
Так-то.
Были мы как-то в Большом зале Консерватории.
Пришли послушать Рахманинова.
После антракта на наш ряд начали протискиваться две пожилые интеллигентные дамы.
– Здесь не занято? (спросила одна из них).
– Да вроде нет (откликнулась я).
– А то (вдруг доверительно сказала дама, показав глазами на сидящих чуть поодаль нас двух дядек вполне интеллигентной наружности) сильно пахнет вот от тех двух (!!!).
– Самогоном? (спросила я).
– По-моему, хозмылом (сказала элегантная пожилая дама – видно было, что мы с ней прямо родственные души).
– В буфете продают (невозмутимо сказала я). Самогон из хозмыла, у меня вкус наметанный.
– У них тут что, подсобное хозяйство? (спросила дама, – явно наш человек).
– Ага (говорю). Пианисты сами варят. А дирижер снимает пробу. Я для этого сюда и хожу: выпить хорошего самогону в буфете. Больше такого в Москве не найдешь – только в Консерватории.
Дама говорит:
– В Большом еще хлеще.
– Пиво с мочой? (спросила я).
– Как вы догадались? (засмеялась дама).
– А вы пищевой технолог? (спросила я).
– Почти. Музыковед (сказала дама). А вы?
– Дегустатор.
– Сомелье?
– Сомелье по-русски.
– Понятно (сказала дама). Берете работу на дом.
– Ага (сказала я, сильно развеселившись – не каждый день можно вот так пинг-понг затеять с незнакомым человеком). Фриланс. А те двое – мои сотрудники.
– От вас приятнее пахнет.
– Духами маскируюсь.
– Пьете или душитесь?
– И то и другое (скромно потупившись, сказала я).
Но тут вышел пианист, и остроумная дама сразу же стала совсем другой – музыковедом с возвышенным выражением лица.
Давали, как я уже говорила, Второй концерт Рахманинова.
Повесть о настоящем человеке
На открытии Московского фестиваля Михалков сказал, что у фестиваля теперь трудности (700 авторов отказались дать свои фильмы), но…
Повысив интонационно свой патриотизм, Михалков заявил, что Россия сама справится.
А как «справиться» с международным фестом, где фильмы брать – если нам бойкот объявили?
– Обойдемся! (сказала соседка с третьего этажа, патриотка России, не понимая, что такое международный фестиваль – я ей в лифте рассказала эту историю).
Я – ей в тон – тоже крикнула:
– Да! Вон в Северной Корее одна опера, «Море крови» называется, и ничего!
Соседка посмотрела на меня внимательно:
– А ты сегодня в Большой эту оперу идешь смотреть? (ей мама хвасталась, что мы в Большой идем).
– Нет, я – «Повесть о настоящем человеке».
– Маресьев петь будет?
– Нет, его внук. Маресьев уже умер. Допелся.
– А музыка чья?
– «Битлз» написали.
– Эти, с волосами, штоле?
– Ага. Четверо грязных подонков из Ливерпуля (точное название статьи 70-х, между прочим – в «Правде»).
– А как им доверили? (спросила соседка, помнящая «Битлз» со времен их травли нашей прессой).
– А это Маресьев захотел: старик был с придурью, безногий, герой, ну и пошли ему навстречу.
– Но хорошая опера-то?
– Офигительная! Люди плачут, когда там хор врачей поет: отрежем, отрежем, отрежем, отрежем! Четыре раза!
– Четыре раза отреза́ли?
– Четыре раза поют!
– М-да (соседка посмотрела на меня искоса, интуитивно понимая, что я так издеваюсь). М-да… (сказала она еще раз). А Колян мне говорил, что ты еще ходила на оперу про этого… ну, который с бабами все время… Дон Жуан который.
– Ага. Там его статуя придушила.
– Что за хрень? (сказала соседка раздраженно). То врачи поют, то статуи безобразничают. Лучше сериалы смотреть.
– Ясное дело. Там хоть врачи не поют и статуи не выпендриваются.
Сидела у меня как-то моя ближайшая подруга Оля. Говорили, как водится, о литературе. И вот, посреди разговора о том, что русская литература вся в напряжении и ждет своего гения, чтобы он мог более-менее внятно артикулировать неподдающуюся какофононическую реальность, зазвонил телефон.
Мой.
Разговор был слышен всем.
– Ну что завтра – в тюрьму? (спросили меня громко).
Будучи выпимши, я вздрогнула.
– Уже? (спросила я упавшим голосом).
– Пора (как эхо, мрачно отозвался голос).
– Кафка какой-то (тревожно сказала Оля).
– Ты в какую хочешь? (спросил голос).
– В женскую, наверно (отозвалась я безо всякого энтузиазму).
– Значит, на следующей неделе ждем тебя в СИЗО номер 6.
Мама, которая вроде знает, что я туда иногда хожу как член ОНК (правозащитник по делам заключенных), схватилась за сердце.
– Допрыгалась (сказала мама).
– Да нет – я как член ОНК пойду.
– ОПГ? – переспросила мама.
– ОНК (сказала я).
– Хорошо, что не ОПГ. Хотя тебе некогда состоять в ОПГ: ты все время в Интернете сидишь. А там заданий много: убить кого-нибудь, рэкет и прочее. На это время нужно.
Тут как-то собрались у одного уважаемого литературоведа такие же вроде уважаемые литературоведы же.
В студии одного телеканала. Обсудить «Даму с собачкой».
Не фильм, а повесть (или это рассказ считается, не помню, хотя эту вещь знаю почти наизусть).
Ну вот.
Ведущий говорит:
– Ну что, господа-товарищи? Какие будут мнения? Повесть-то о великой любви…
– Не-а (говорит другой уважаемый спец). Нет никакой такой любви там! Гуров баб любит всяких там, и Анна Сергеевна – всего-то очередная была его пассия (именно на таком уровне идет обсуждение).
Ему вторит какая-то тетка:
– Ага (говорит). Какая такая еще любовь! Ее вообще нигде нету.
Ей вторит и третий, и четвертый – все по очереди говорят, что типо любви никакой нигде не наблюдается.
Ведущий приходит в ужас: разваливается-то обсуждение.
Опять делает попытку:
– Любовь как великое неконтролируемое (ну, не дословно) чувство…
И на старичка смотрит в углу: старичка-специалиста по истории литературы.
Старичок приводит какие-то свидетельства, контекст написания рассказа (или повести?).
И тут какой-то дядька говорит старичку:
– Пааазвольте! (перебивая умного старичка). Я вот что хочу сказать: в завершение нашей интереснейшей (?!) беседы. У Гурова ведь было два дома?
Все говорят хором:
– Ну!
– Так вот, продал бы один, с женой развелся бы…
Мы с Олей смотрели, начали уже падать под стол.
А все в студии говорят:
– Точно!
И дальше пошел разговор риелторов.
Как один дом продать, а на эти деньги купить квартиру Анне Сергеевне, как уладить дела с жилконторой и пр. И как грамотно развестись с женой, которая у Гурова была, как иронизирует Чехов, женщина «мыслящая».
Ведущий чуть инфаркт не получил. Пытался их перебить, но они, как риелторы, все обсуждали дома и как их продать.
Оля говорит:
– Сейчас до перекрытий и паркета доберутся.
В общем, хорошая была передача.