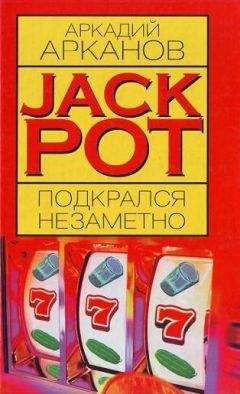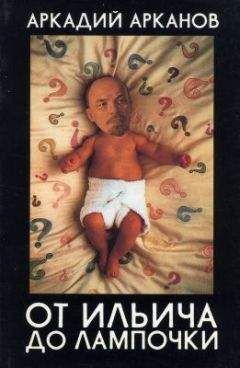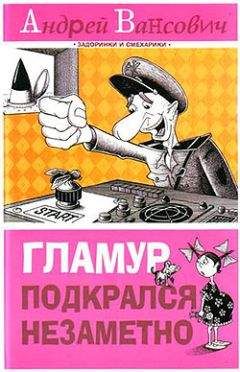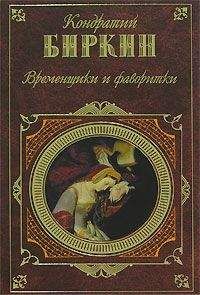— В конце концов у нас журнал или пансион для детей ответственных личностей? — выпалил Сверхщенский.
Это уже было чересчур, и Индей Гордеевич сказал строгим, хорошо поставленным голосом:
— Покиньте кабинет, Сверхщенский! Пойдите и подумайте, почему у вас в очерке о Мухославске сплошное ячество и американизмы!
Сверхщенский вспыхнул и выскочил из кабинета, так хлопнув дверью, что с потолка посыпалась штукатурка, запачкав пиджак Алеко Никитича.
— Ой, горячий! — запричитал Свищ. — Честный, но горячий! Учиться сдерживать себя надо! Ой, как надо!..
— Гнать его пора, — буркнул Индей Гордеевич.
— Если мы, старина, всех разгоним, — улыбнулся Алеко Никитич, стряхивая с плеча штукатурку, — так мы с вами в лавке вдвоем останемся…
— И, уверяю вас, больше будет толку, — подытожил Индей Гордеевич.
— Ну, вот что. — Алеко Никитич принял решение. — Поскольку мы здесь все ни к какому мужскому выводу не пришли, ступайте и работайте, а я еще посоветуюсь с Н.Р. Только не болтайте до поры до времени каждому встречному.
— Да я язык себе вырву, — начал пятиться к двери Свищ, — да под пытками смолчу…
Оставшись наедине с Индеем Гордеевичем, Алеко Никитич набрал номер телефона:
— Ариадна Викторовна?.. День добрый! Как здоровьичко?.. Ну и отлично… Супругу кланяйтесь… Сам у себя?.. Соедините, милая… День добрый!.. Как здоровье?.. Супруга как?.. Ну и отлично… Тут вот какое дело. Посоветоваться надо… Лучше бы не по телефону… Завтра? Записал… В десять пятнадцать?.. Записал… Не опаздывать? Записал… Извините, что оторвал, но дело уж больно щекотливое… Супруге кланяйтесь.
— И от меня супруге привет, — придвинулся Индей Гордеевич, но Алеко Никитич уже повесил трубку.
— Зачем быть умнее кондуктора? — сказал Алеко Никитич. — Как решит, так и сделаем.
И Индей Гордеевич покинул его кабинет. Он отправился к себе, заперся на ключ и стал петь «Пролог» из оперы Леонкавалло «Паяцы». Он любил попеть наедине арии из опер, снимая таким образом нервное напряжение. И все в редакции знали: упаси боже в такую минуту заглянуть к нему в кабинет…
С-с-с… Алеко Никитич идет по редакционному коридору в сторону комнатки, где сидит Ольга Владимировна. Он входит к ней и застает ее печатающей. Она сидит на высоком стульчике, подложив красненькую подушечку, и сдувает спадающие на глаза волосы, так напоминающие Симины, Симулины. Алеко Никитич запирает дверь изнутри, подходит к Оле, Оленьке, к ласточке… «Да что это вы, Алеко Никитич?» — шепчет Оля, подставляя ему свои губы.
Только все это грезится Алеко Никитичу, все это ему представляется, пока идет он по редакционному коридору в направлении комнатки, где сидит и печатает машинистка Ольга Владимировна. С-с-с.
А она сидела в своей маленькой комнатке в конце коридора, подложив на стул, как всегда, красную подушечку, и гнала к четырем часам принесенную ей утром новую рукопись из тетрадки в черном кожаном переплете. Почерк был незнакомый, не очень разборчивый, так что время от времени ей приходилось склоняться над тетрадкой, и тогда вымытые с ночи волосы спадали на глаза, и она сдувала их, выпятив искусанную нижнюю губу. И по мере того, как она все больше и больше углублялась в содержание, чувство безграничной жалости помимо ее воли заполняло каждую клеточку тела. В горле сформировался затруднявший дыхание комок, и в конце концов она даже вынуждена быль оторваться от работы и выпить валериановых капель, которые всегда держала при себе вахтерша Аня. Ольга Владимировна ясно представляла себя на странном и знойном заброшенном острове, запертой в роскошном дворце, без малейших шансов обрести свободу. Она находила много общего в Олвис с собой и со всеми женщинами, с которыми когда-либо была знакома, о которых когда-либо что-либо читала или слышала, переживая даже за тех женщин, о существовании которых ей было абсолютно неизвестно. И сколько ни пыталась Ольга Владимировна отделаться от навязчивых ощущений, ничего у нее не получалось. Она решила, что заболела, причем могла сказать, когда заболела; сегодня утром, едва раскрыв тетрадку в черном кожаном переплете.
Без стука вошел Алеко Никитич и спросил, как дела.
— Успею, — сказала Ольга Владимировна и шмыгнула носом. — К четырем успею.
— Что с вами? — наклонился к ней Алеко Никитич. — У вас что-то случилось?
— Ничего, Алеко Никитич. Так. Нашло.
— Вас обидели?
— Кто меня может обидеть, Алеко Никитич…
— Вас никто не посмеет обидеть, Ольга Владимировна. — Алеко Никитич произнес это с какой-то новой для себя и для Ольги Владимировны интонацией. Ей даже показалось, что она не машинистка, а он не хозяин журнала… А так… Встретились просто два человека, и один интересуется, как живет другой. Ольга Владимировна с некоторым удивлением взглянула на Алеко Никитича.
— Да я и необидчивая, Алеко Никитич…
— Вы все в той же коммуналке в Рыбном переулке?
— А где же?
— С мужем не сошлись?
— Еще чего.
— Завтра я буду по делам в одном месте и поставлю вопрос о предоставлении вам отдельной квартиры.
— Не беспокойтесь, Алеко Никитич. У вас и так столько забот…
Алеко Никитич пометил что-то в своей записной книжечке и сказал:
— Постарайтесь к четырем успеть, Ольга Владимировна… Кстати, вам нравится?
— Какая разница? — вздохнула Ольга Владимировна. — Вы же все равно не опубликуете…
— Почему вы в этом уверены?
— Мне так кажется.
— А вот и неизвестно, Ольга Владимировна, — загадочно произнес Алеко Никитич и вышел.
И Ольга Владимировна заработала дальше…
Двадцать девять дней мадрант не выходил из покоев, не принимал Первого ревзода, не интересовался государственными делами, и о его существовании можно было судить лишь по тому, что за это время в водоем со священными куймонами были брошены двенадцать арбаков, так как ночи мадрант проводил беспокойно. Правая рука — если можно было назвать правой рукой то, что осталось, — время от времени давала себя знать. Иногда мадрант просыпался среди ночи оттого, что явственно чувствовал, как горит его правая ладонь. Перед глазами возникало лицо Олвис, ее пылающая щека, ее не столько испуганные, сколько удивленные, наполнившиеся слезами глаза. И однажды мадрант среди ночи даже потребовал, чтобы немедленно доставили к нему дворцового палача Басстио. И когда заспанный Басстио появился в покоях мадранта, то был совершенно обескуражен приказом сей же момент отсечь повелителю правую руку по локоть. Тогда Басстио пролепетал, что не может исполнить высочайший приказ по причине того, что уже однажды со свойственной ему, дворцовому палачу и наипреданнейшему слуге, точностью и аккуратностью он аналогичный приказ выполнил. Мадрант пришел в себя, отпустил Басстио, пригрозив выдрать ему язык, если хоть одна душа узнает об этом ночном недоразумении, и долго еще сидел на своем ложе, шепча молитвы и внимательно разглядывая обрубок, как бы убеждаясь в истинном отсутствии своей правой ладони.
Неоднократно вспыхивало в нем желание явиться к Олвис, но гордость и опасение, что она может уступить ему только из покорности и страха, останавливали мадранта, и он лишь глухо рычал, не имея внутренних сил ни проследовать в розовый дворец, ни обуздать желание.
На исходе тридцатого дня, когда последние рыбаки уже возвращались на берег и отзвучали вечерние молитвы, когда город опустел и уснул, оставив бодрствовать только ночную стражу, когда окончательно погрузился он в липкий, не давший облегчения после дневного зноя мрак, мадрант в сопровождении двух телохранителей покинул дворец и отправился на окраину к проклятым зловонным болотам, где стояла старая, ободранная лачуга, известная горожанам как «логово Герринды». Шедший впереди телохранитель резко раздернул бамбуковый занавес у входа и ворвался в лачугу. Убедившись в том, что никакая опасность не угрожает мадранту, он знаком пригласил его войти, а сам вместе с напарником остался у входа.
Сидевшая на полу с поджатыми ногами Герринда даже не шелохнулась. Уставившись своими мертвыми глазницами куда-то вдаль, сквозь стену лачуги, она словно бы вслушивалась во что-то. Ее нисколько не удивил ночной визит мадранта.
«Я знала, мадрант, что ты придешь именно сегодня, я знала это уже тридцать дней назад, когда почувствовала жестокую боль в правой руке, будто палач Басстио отсек мне ее по локоть. Когда шел тебе только второй год, мадрант, и отец твой уходил в Великий Морской Поход, я знала, что вернется он из похода опозоренный, потерявший все свое воинство, спасшийся лишь моими молитвами. Я знала, что ворвется он в мои покои (а ведь я тогда жила во дворце, мой мадрант!) глубокой ночью, такой же душной, как эта ночь, в бессильной ярости выместит на мне всю горечь и весь позор своего поражения и прикажет выжечь мои глаза, в которые накануне Великого Морского Похода взглянула кровавая звезда Арристо и предсказала скорый и неминуемый позор. Твой отец назвал меня виновницей всех бед и несчастий, обрушившихся на него и его страну, и прогнал на эти проклятые ядовитые болота, под страхом смерти запретив людям не только общаться со мной и помогать чем-либо, но и велев обходить мою хижину дальней дорогой как страшное место, в котором поселилась смерть. Твой отец не мог умертвить меня, может быть, побоявшись навлечь на себя еще более тяжкие напасти, а может быть, потому, что любил меня. Вот почему, когда тридцать дней назад я почувствовала, будто не тебе, а мне палач Басстио отсекает правую руку, я знала, что сегодня ночью ты появишься здесь».