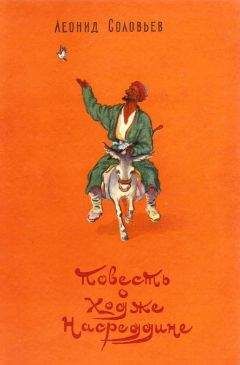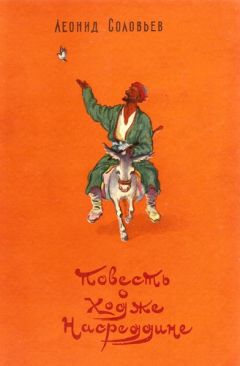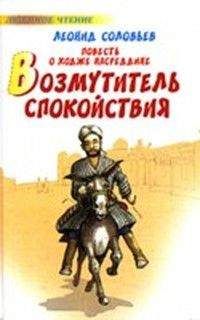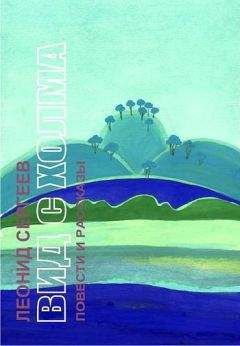Агабек тупо смотрел на доску, не понимая, что произошло. По мере того как истина прояснилась перед ним, его мясистое лицо синело все гуще и гуще.
— Игра окончена! — сказал Ходжа Насреддин. — Где мой выигрыш?
Сафар дрожащей рукой придвинул к нему поднос; недвижным взглядом, полным тоски и темного страха, он следил, как пересыпает Ходжа Насреддин деньги в свой кошелек, надевает сапоги, снятые всего минуту назад. У старика отнялся язык с перелугу, хотя во всем этом деле он был только свидетелем, — но такую уж робкую душу носил он в себе, что всегда и всего боялся и постоянно ждал беды от каждого нового человека, от каждого события вблизи. "Что будет, что будет?" — с тоской спрашивал он себя, предвидя великие бури; ему думалось, что теперь весь гнев Агабека обратится против него и сокрушит его благополучие. Между тем все это благополучие, за которое он так трепетал, заключалось всего-навсего в чайхане, слепленной на скорую руку из глины и камыша, ценою, на самого щедрого покупателя, никак не дороже двух сотен таньга; больше у Сафара ничего не было — ни дома, ни сада, ни поля, а дрожал он так, словно хранил в подвалах слитки золота. Нищий, он обладал другим бесценным сокровищем — свободой, но пользоваться ею не умел; он сам держал себя на цепи, сам связал крылья своей души! От нищеты он взял ее плотскую часть, то есть лишения, а от богатства — духовную, то есть вечный страх; и в том и в другом случае он избрал для себя наихудшее.
Агабек все молчал, не отрывая выпученного взгляда от доски; сизая краска на лице переходила уже в черноту.
— Чайханщик, у вас есть в селении лекарь? — осведомился Ходжа Насреддин. — Может быть, во избежание удара, следует пустить ему кровь?
Лекаря звать не пришлось, опасность миновала; с натугой, с хрипом Агабек перевел дыхание, его раскаленный загривок начал остывать, и зловещая темно-сизая синева исчезла с лица.
— Как я не заметил! Поистине, путник, ты напустил мне в глаза колдовского тумана!
— Сыграем еще?
— Пусть меня пожрет самый смрадный из дьяволов, если когда-нибудь я сяду за доску с тобою! Уезжай поскорее, хватит с тебя и семисот пятидесяти таньга, что ты уже выудил!
Но Ходжа Насреддин вовсе не собирался покидать селения так быстро.
— Опять изгнание, отовсюду изгнание! — Он скорбно усмехнулся, поник головой. — Уезжать… уместнее было бы другое слово: бежать. О злая судьба, о ветер невзгод!
Стрела его жалобы попала в цель.
— Разве тебя кто-нибудь преследует? — насторожился Агабек.
— Несчастья, беды, неудачи — вот мои неутомимые преследователи!
— Если твои неудачи всегда таковы, как сегодняшняя, — можно тебе позавидовать.
— Это всего лишь случай, один на сотню противоположных.
— А куда ты направляешь свой путь?
— Не знаю и сам. Куда глаза глядят. Мне все равно — юг или север, восток или запад…
— Но ты ведь имеешь какую-нибудь цель, ради которой предпринял свое путешествие? Ты не богач и не вельможа, чтобы разъезжать для собственного удовольствия.
Так завязался между ними первый разговор — большая игра в Паука и Шершня началась.
Агабек расспрашивал не без умысла: может быть, этот путник виновен в каком-нибудь беззаконии? Тогда — схватить его, предать в руки стражников и таким образом вернуть свои семьсот пятьдесят таньга! Ходжа Насреддин усмехнулся в душе над его надеждами, но развеивать их не спешил:
— Какое уж тут удовольствие! Знай, о почтенный, что не столь давно и я обладал собственным домом и кое-каким достатком, но по воле злой судьбы внезапно лишился всего и ныне пребываю в ничтожном жалком положении, хуже нищего.
— Что за несчастье постигло тебя?
— История моя соткана из тысячи скорбей! Я жил в Герате, где занимал многодоходную должность старшего писца у главного базарного надзирателя.
— В Герате? Я бывал там когда-то. Продолжай.
— Клянусь аллахом, мой начальник был мною доволен. Я собирал для него плату за места на базаре, причем за плохие получал как за средние, а за средние — как за хорошие. Каждый грош, что мог я вырвать у какого-нибудь презренного земледельца или ремесленника, я нес в дом начальника и благоговейно возлагал на михраб моей преданности. Начальник, принимая деньги, всегда говорил: "О Узакбай, если бы я имел даже тысячу горшков, полных золота, — бестрепетно доверил бы тебе ключи от подвала!" И — не ошибался в этом: его добро было для меня дороже собственного; так учил меня отец, служивший ключником у одного вельможи, таким остался я на всю жизнь. За верную службу начальник отделял мне одну двадцатую часть доходов.
— Не много, — заметил Агабек.
— Но достаточно, чтобы за восемь лет я скопил изрядное достояние. Кроме того, я ценил свою должность за то, что она оставляла мне время для моих ученых занятий, рассказывать о которых сейчас излишне. И вдруг над моим начальником грянула гроза…
Агабек слушал очень внимательно, из чего Ходжа Насреддин заключил, что тратит слова не впустую.
— Мой начальник допустил некий промах по службе.
— Ага!.. — догадался Агабек, сделав рукою хищное движение, словно прибирая что-то в карман.
— Враги не преминули донести, мой начальник лишился службы и всего имущества, отобранного в казну.
— Понятно, понятно, — сказал Агабек, участливо кивая толстой головой. — Эти промахи по службе иной раз обходятся очень дорого, очень дорого!..
Еще одна страница из его прошлой жизни открылась Ходже Насреддину.
— Скорбную участь моего начальника разделил и я, и ныне брожу по свету, не зная, где положить свой страннический посох и приклонить голову. И, наверное, мне до конца дней пришлось бы скитаться, если бы не сегодняшний, столь счастливый выигрыш.
Агабек нахмурился, засопел: Ходжа Насреддин коснулся его кровоточащей раны.
— Постараюсь этими деньгами распорядиться разумно.
— То есть сыграть с кем-нибудь еще? — ядовито осведомился Агабек.
— Да защитит меня пророк от соблазна: такое счастье дважды не повторяется. Нет — я изберу себе дело по сердцу.
— Торговлю?
— К торговле я не чувствую склонности. Служба в каком-нибудь тихом уголке, где бы я мог продолжать ученые занятия, — вот куда устремлены мои помыслы. Но кто же даст мне, чужеземному неизвестному человеку, такую службу без денежного залога? Но теперь, когда я могу внести полновесный залог…
— Ты едешь на поиски службы?
— Не здесь же мне оставаться? Мой ишак, кстати, отдохнул, пора мне трогаться в путь. Благодарю тебя, почтеннейший, за твои семьсот пятьдесят таньга; эй, чайханщик, сколько я должен за чай и за ночлег?
Ходжа Насреддин взял седло, служившее ночью ему изголовьем, и направился к ишаку. При этом он туго натянул аркан жадности, которым привязывал к себе Агабека.
— Подожди, подожди! — воскликнул Агабек, видя, что его семьсот пятьдесят таньга вот-вот накроются шайтаньим хвостом. Вернись, я скажу тебе важное слово.
Аркан жадности оказался толстым и прочным, узел — затянутым наглухо.
— Ты едешь на поиски службы — об этом как раз я и хочу потолковать с тобою.
— О почтеннейший! — Ходжа Насреддин поспешно вернулся в чайхану. — Ты, может быть, знаешь такое местечко — моим благодарностям не было бы границ!
— Вот именно — знаю.
— Благословенное слово!
— И неподалеку, совсем рядом. Ходжа Насреддин изобразил на лице почтительное недоумение:
— Достойному собеседнику благоугодно говорить загадками, но мой ничтожный разум бессилен проникнуть в них.
— Ответь сначала на несколько вопросов, а потом уж я открою тебе смысл моих слов, — сказал Агабек:
он думал, что и впрямь говорит загадками! — Ответь, не приходилось ли тебе когда-нибудь раньше бывать в нашем селении?
— Нет, не приходилось.
— Не имеешь ли ты здесь каких-либо родственников?
— Нет, не имею; все мои родственники остались в Герате.
— А друзья? Может быть, в нашем селении есть человек, с которым ты дружен или когда-нибудь раньше был дружен?
— Такого человека здесь нет: все друзья мои тоже в Герате.
— Но может быть, твои родственники — из оставшихся в Герате — имеют здесь друзей или, наоборот, твои гератские друзья имеют здесь родственников?
— Клянусь бородою отца, что ни я сам, ни мои родственники и друзья, ни родственники моих друзей и друзья моих родственников, ни даже родственники друзей моих родственников и друзья родственников моих друзей — никогда не бывали в этом селении, никогда о нем не слышали и никого здесь не знают.
— Остается последний вопрос: не бывает ли твое сердце подвержено приступам глупой жалости к чужим людям?
"Вспомнил старика, что охраняет гробницу Турахона",сообразил Ходжа Насреддин и ответил:
— Всю жалость моего сердца я трачу на самого себя; для чужих не остается ничего.