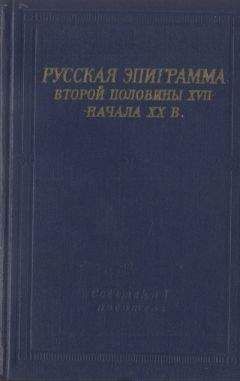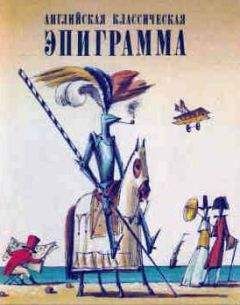По композиционному рисунку это такой тип эпиграммы, где вроде бы нет двучленного деления. Принцип параллельного развития частной и общей, «большой» темы заменен последовательным изложением, точнее — изображением авторской мысли. Причем нарастание сатирической экспрессии идет в обратном порядке: Тому, кто стоит на конце, достаются самые высокие оценки, в которых схвачена качественная определенность крыловского юмора[9]. Когда речь заходит о Дмитриеве, эпиграмматист проявляет сдержанность, касаясь лишь тематики, правда, так, что становится недвусмысленной и качественная сторона творчества баснописца. В строке о Хемницере отношение передается не словами, а жестом: «С усмешкой первому сжал руку — и ни слова». При этом где-то посредине пересекаются искусно протянутые две линии. Одна, логически, можно даже сказать графически, прочерченная, развертывает перечень фамилий; другая — оценочная, фиксирует шкалу авторских мнений. Как видим, здесь двучленность, вернее двуплановость, тоже сохраняется, но только предстает в измененном и усложненном виде.
2
В XIX веке реализм прокладывал себе дорогу как в борьбе с классицистической догмой, так и в тяжбе с сентиментальным направлением, выступая подчас рука об руку с романтизмом.
В области эпиграммы начало столетия ознаменовано оживленной деятельностью эпигонов классицизма. Появляются десятки, сотни такого рода произведений. Наиболее популярные адресаты эпиграмм того времени: стихотворец-графоман, малограмотный переводчик, литератор, не брезгающий плагиатом, и т. п. Нередки и темы бытового плана — дурно лечащие врачи, глупцы, невежды, взяточники, сутяги. Словом, весь тот паноптикум профессиональных и нравственных уродцев, который уже был достойно представлен эпиграммой XVIII века, вновь демонстрировался нашей сатирой, и притом во множестве вариантов. Кроме того, псевдоклассицисты пользовались отработанными приемами, комбинируя для создания типажности черты, ставшие привычными полвека назад.
В начале XIX века эти типажи стали отжившим свой срок материалом, а приемы назидательного иносказания — стертыми от частого употребления. Однако, как ни странно, именно теперь на читателей пролился каскад знаменательных фамилий (Вралевы, Хвастоны, Кокоткины, Взятколюбовы, Подлоны и т. п.). Казалось, вместо того чтобы раскрывать противоречия жизни или хотя бы указать на новые объекты, достойные порицания, эпиграмматисты состязались совсем в ином — в придумывании кличек позамысловатее и позаковыристее.
Если сатира не желала обвинений в затверженности тем и обидной для всякого подлинного искусства вторичности, она должна была искать выход. Один путь предложили писатели-сентименталисты (H. М. Карамзин, И. И. Дмитриев). Поэзия чувства сменила рационалистическую сухость классицизма. Однако личное, субъективное переживание отнюдь не усилило обличительного пафоса, но, наоборот, скорее привело к затушевыванию тех коллизий, которые хорошо видели и показывали писатели-классицисты. Легкость, «чувствительность» становились не только приметой стиля, но характеризовали сам тип изящно-салонного мышления сентименталистов.
Эпиграмму классицистов — негодующую или язвительную тираду — сменила картинка, лишенная какого-либо намека на злободневность, хотя и нацеленная на некоторые несовершенства бытия. Дурное входит в такое произведение в сильно эстетизированном и «снятом» виде. Потому-то эпиграмма поэтов-сентименталистов порой напоминает скорее идиллию, нежели сатиру.
Соответственно, и стих у сентименталистов гладкий, плавный. По размеру это тот же ямб (как правило, равностопный, что придавало спокойную мерность и невозмутимость ритму), без энергии и упругости колючих строк Капниста, Державина, Нахимова.
Сентименталисты выработали свои излюбленные виды эпиграмм. Один из них — форма короткой стихотворной сентенции (философско-медитативной или лирической). Здесь господствуют размышления над бренностью земного бытия, мотивы горестных утрат и несбывшихся желаний. Все это освещено мягкой улыбкой утомленного под тяжестью житейской ноши поэта, сдобрено изящной и едва ощутимой иронией. Юмор сентименталистов затушевывает, смягчает жизненные коллизии, улыбка гасит злость.
Такое понимание комического неплохо согласовывалось с теоретическими построениями лидеров этого литературного течения. Так, например, тезис о примиряющей и целебной роли смеха был главным в статье В. А. Жуковского «О сатире и сатирах Кантемира»: «Смех оживляет душу, или рассевая мрачность ее, когда она обременяема печалию, или возбуждая в ней деятельность и силу, когда она утомлена умственною, трудною работою»[10].
Крупнейший поэт русского романтизма первой четверти XIX века Жуковский не оставил сколько-нибудь значительных опытов в жанре эпиграммы. Это легко объяснимо. Меланхолически-элегический стих поэта был не в ладах с эпиграмматическим стилем, которому, как известно, присущи насмешливость тона, острота и резкость характеристик. Кроме того, личная склонность Жуковского к благодушию, его зависимость от службы при дворе не оставляли никакой надежды не то что на памфлетность или оппозиционность, но даже на полемичность. А без этого о какой же эпиграмматической поэзии может идти речь?
В начале XIX века выходит из печати ряд теоретических и учебно-прикладных трудов, на страницах которых делаются попытки наметить новые пути в развитии жанра эпиграммы. Так, например, в книге Ивана Рижского «Наука стихотворства» (1811) проявилась тенденция к иному толкованию задач эпиграмматиста, нежели те, что были определены несколько десятилетий ранее в «Правилах пиитических…» Аполлоса Байбакова. Здесь впервые вводится понятие «непритворности замысла», куда более свойственное реалистической поэтике, нежели классицистической. Автор «Науки стихотворства» это нововведение расшифровывает следующим образом: «Непритворность замысла состоит в том, когда содержащаяся в нем мысль кажется произведением не остроумия сочинителя, но самого предмета…»[11]
Однако не так-то легко было, пробиваясь сквозь мощный поток классицизма XVIII века и влияние его эпигонов в начале XIX столетия, разрабатывать принципы эпиграмматического искусства нового типа. Поэтические руководства нередко просто фиксировали предшествующий опыт, нежели делали попытки творческого осмысления новой современной практики. Не случайно тот же И. Рижский еще никак не отразил в своем труде достижения Крылова-баснописца, целиком построив раздел о басне на основе творчества Сумарокова, Дмитриева и Хемницера.
То же самое можно сказать и об эпиграмме. Когда речь заходила о ней, то чаще всего встречались попытки гальванизации жанра в тех границах и формах, в каких он отлился много лет назад[12].И все-таки побеждала тенденция к реалистическому осмыслению задач и целей эпиграмматического искусства. Плодотворное наблюдение И. Рижского о «непритворности замысла» у эпиграмматиста оказалось развитым несколько лет спустя — в трудах Н. Остолопова. Характеризуя особенность «новейшей эпиграммы», Н. Остолопов говорит прежде всего о том, что она «заключает предложение предмета или вещи, произведшей мысль»[13].
Рядом с этим близким к реалистическому пониманию функций сатирического искусства рассуждением содержится тонкое замечание о роли различных видов комического в эпиграмме: «Эпиграмма более понравится, когда принимает вид важный, желая быть шутливою; вид простоты, желая быть замысловатою; вид кротости, желая быть язвительною»[14].
Поиски эстетической мысли начала XIX века, несомненно, отражали наступление каких-то существенных перемен. Страна, омытая «грозой 12 года», вынашивающая в своих недрах деятелей декабристского движения, стояла перед переломным моментом в истории отечественной литературы. У истоков этого обновления — мощная фигура И. А. Крылова.
Эпиграммы Крылова немногочисленны, имеют случайный характер, в художественном отношении малооригинальны. Пожалуй, за исключением только одной:
Ест Федька с водкой редьку,
Ест водка с редькой Федьку.
Зато как реформатор русской басни Крылов оказал сильнейшее воздействие на развитие самого малого сатирического жанра. В. Г. Белинский, оценивая значение подвига, совершенного автором «Волка на псарне» и «Рыбьей пляски», заметил: «…явился на Руси национальный баснописец — Крылов»[15]. Емкая формула великого критика нуждается в расшифровке.
Если у Сумарокова и его последователей господствовал сословный и этнографический подход к изображению жизни, то у Крылова видим качественный скачок — в его баснях постигается социальное и национальное. Рационалистическое осмысление жизни, в котором главенствовала позиция негодующего разума, сменяется конкретно-историческим анализом жизненных коллизий. Так пришло открытие социального человека. Отсюда вместо условных классицистических одежд, всех этих Дамонов и Глупонов, появляются простецкие кум Фома и Лука, Федька и Ерема.