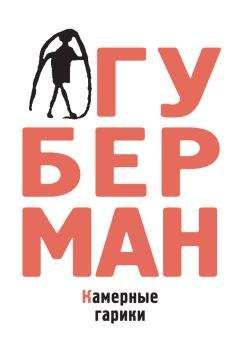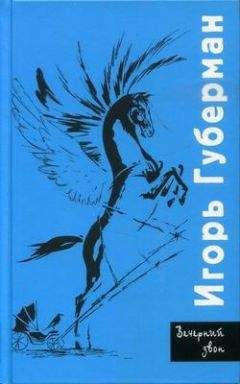– С кем ты сегодня? – спросила одна из голов другую.
– С женой, – ответила без удовольствия вторая голова.
– Что так? – сочувственно спросила первая.
– Да день рождения, – откликнулась вторая с омерзением.
Среди клочков, разложенных сейчас на моем письменном столе, – большой бумажный лист, исписанный коряво, но читабельно. Это стишок из давней и распутной молодости автора. Когда-то я его любил читать, потом забыл, он очень быстро потерялся, а теперь возник из долгого небытия, и грех его не напечатать, потому что тоже – про любовь.
С таким подчеркнутым значеньем,
с таким мерцанием в глазах,
с таким высоким увлеченьем —
то на порыве, то в слезах —
о столь талантливых знакомцах
(порой известных не вполне),
о стольких звездах, стольких солнцах
она рассказывала мне,
как будто Пушкин был ей братом,
и лично Лермонтов знаком,
как будто выпила с Сократом
и год жила со Спартаком.
Как будто Дант дарил ей счастье,
Шекспир сонеты посвящал
и, умирающий от страсти,
всю ночь Петрарка совращал.
Мне рассказать она спешила,
что впредь без загса и венца,
но лишь великому решила
себя доверить до конца
блестящих дней своих. И грозно
она взглянула мне в глаза…
Плестись домой мне было поздно,
и я с надменностью сказал,
что не хвастун, а тоже антик,
что инженер я и поэт,
лентяй, нахал, болтун, романтик,
и чтоб она гасила свет.
Холодный ветер плакал скверно,
метель мелодию плела,
она поверила, наверно,
и в рюмки водку разлила…
Плясали тени, плыли блики,
луну снаружи просочив…
Так приобщился я к великим,
попутно триппер получив.
Теперь еще немного про высокую любовь в ее земном (буквально) проявлении. Одна моя знакомая услышала случайно разговор двух молодых российских женщин. Было это, кажется, в кафе. Одна из них похвасталась подруге, что ее так пылко полюбил мужчина некий, что сейчас он собирается в подарок ей купить клочок земли, чтобы на нем построить дом и проживать совместно. И доверительно добавила счастливица:
– Он под Афинами собрался землю покупать. А именно в какой стране, я не скажу, чтобы не сглазить.
Тут я, естественно, припомнил замечательно печальные слова из некоего женского письма (на сохранившемся клочке неведомой газеты были эти грустные эпистолярные обрывки): «Как, спрашивается, отличить порядочного мужчину от прохвоста, когда у них у всех на уме одно и то же?»
А предыдущая история (тьфу-тьфу, чтобы и мне ту ситуацию не сглазить) не с клочка бумаги списана, а с некоего примечательного диска. Незнакомая мне женщина, исполненная редкого доброжелательства и зная, что мы скоро встретимся на юбилее общего приятеля, заранее на диске записала несколько отменных баек. Хорошо хоть в книге могу ей выразить свою душевную признательность. Потому что, получая диск, я что-то маловыразительное бормотнул, мне никогда еще не делали таких подарков. Вот самая первая история оттуда.
В полупустой трамвай, по Питеру катившийся, вошла женщина с мальчонкой лет пяти-шести, по росту судя. Непропорционально огромная голова мальчика была наглухо обмотана платком, даже лица не было видно. Очевидно, даун, бедолага, мельком подумала рассказчица. Они уселись где-то позади. И вдруг на весь трамвай раздался звонкий, бодрый и вполне здоровый голос мальчика.
– Мама, я царь? – спросил он.
– Сволочь ты, а не царь! – гневно ответила мать.
Тут из пассажиров кто-то возмутился: что вы, дескать, так безжалостно и грубо обращаетесь с ребенком? Женщина ответила печально:
– Он себе на голову надел хрустальную вазу, едем ее пилить.
А кстати, когда я эту историю на пьянке рассказал, то наш приятель общий, врач-хирург, с энтузиазмом вспомнил полностью аналогичный случай в Вологде. Оттуда он привез такой незаурядный медицинский и житейский опыт, что для всего на свете у него теперь имеется созвучная история. К ним однажды привезли на скорой помощи больного, у которого на карточке была загадочная запись состояния: «Голова в постороннем предмете». А предметом этим оказался глубоко и крепко нахлобученный ночной горшок. К удаче слесарей, которых вызвали немедленно, он был без содержимого и чистый.
А вторую байку с диска я теперь немедля вспоминаю, как только услышу от кого-нибудь слова, какую мы великую культуру привезли с собой в Израиль (то же самое – в Америку, Германию, Австралию и всюду, куда въехали за эти годы). Этот разговор моя рассказчица услышала в кафе, которое красиво называлось «Лотос». По соседству с ней сидели две отменно принаряженные дамочки с ухоженными лицами и маникюром, столь же ярким, как и макияж. Они со вкусом обсуждали, до какой кошмарной степени отсутствием культуры надо обладать, чтобы назвать кафе названием стирального порошка.
Мне подарили этот диск в начале всей гастроли по Америке, и я нашел там байку, ставшую предметом моей гордости на двух десятках выступлений. Я рассказывал о некоем грехе, который только в самые последние года пополнил список многочисленных еврейских виноватостей. Мне самому отменность этой байки доставляла удовольствие при каждом повторении ее.
А место действия – опять битком набитый питерский автобус со служащим и всячески трудящимся народом. На одной из остановок втиснулся туда заметно пьяный человек, который грязным, черным матом громогласно поносил евреев. Суть же монолога, если вытащить ее из просто ругани, вся состояла в том, что это некие предательские люди, чье коварство, вероломство, ненадежность никаким словам не поддаются. Кто-то наконец в автобусе не выдержал и пьяному сказал, что женщины и дети рядом едут и нехорошо при них ругаться неприличными словами. Про евреев, мол, – пожалуйста, а мат оставьте при себе. И пьяный не обиделся и не вскипел. Он повернулся к упрекнувшему его и с горестной печалью в голосе сказал:
– Я за него, иудиного сына, свою дочку замуж выдал, а он ехать не хочет!
Вот я и вышел на излюбленную тему. Но сначала поясню, каким давнишним чувством я хотел бы поделиться. Поражает меня в нашем удивительном народе резкая и очевидная полярность умственных способностей. Точнее – их полярное распределение. На полюсе одном – отменно ясный ум, сметливость необыкновенная, и быстрота реакции, и к пониманию всего происходящего высокая способность. На полюсе другом – такие сгустки глупости, что делается страшно, ибо глупости сопутствует апломб, уверенность в непогрешимости суждений и невероятная от этого категоричность. Об активности уж нечего и говорить. Я два примера этой удивительной полярности рассказываю всюду на концертах.
Первый – с полюса сметливости. Сегодня уже только пожилые меломаны (тоже далеко не все) припомнить могут имя некогда весьма известного молодого скрипача Буси Гольдштейна. Этот мальчик (из Одессы, разумеется, великого Столярского любимый ученик) был от роду двенадцати примерно лет, когда за яркую победу на каком-то конкурсе сам всесоюзный староста Калинин орденом его прилюдно награждал. В Москве, в Колонном зале это было. Году в тридцать четвертом приблизительно. А мама Буси незадолго до начала церемонии его в сторонку отвела и тихо, но внушительно сказала:
– Буся! Когда дедушка Калинин на тебя нацепит орден, ты ему скажи – но громко: дедушка Калинин, приезжайте к нам в гости!
– Неудобно, мама, – попытался Буся отказаться.
– Ты это скажешь! – завершила мама разговор. И послушный мальчик Буся, когда дедушка Калинин с ласковой улыбкой мальчику вручил высокую награду, громко пригласил его приехать в гости.
И немедленно из зала прозвучал отменно на испуг поставленный крик мамы молодого скрипача:
– Буся! Что ты говоришь? Мы ведь живем в коммунальной квартире!
Нет, я не поручусь за достоверность этой байки, только несомненно мне ее правдоподобие. А ордер на квартиру, говорит история, на следующий день им привезли.
А кстати говоря, у этой мамы был и старший сын. Ничуть не меньшего таланта. Но еще играла в нем струна незаурядного авантюриста. Был он композитор, и хорошую писал он музыку, но до известности никак не получалось дотянуться. И вот в конце сороковых годов, в разгар уже забытой, к сожалению, кампании за русский приоритет (суть состояла в том, что все на свете было изобретено в России), в мире музыкантов вдруг ошеломительная новость разнеслась. В архиве некоем отыскались ноты сочинений композитора Овсяннико-Куликовского, и музыка потерянная эта – ослепительно божественной была. Такая – в духе Моцарта, но так как автор из славян, то много лучше. Называлась «Двадцать первая симфония», а значит – и другие были. Несколько из них потом нашлись. Сам этот автор не был никогда известен сочинительством, но страстью к музыке достаточно известен. Сей помещик был заядлый меломан, огромный содержал оркестр из крепостных крестьян, а как-то по душевной прихоти весь тот оркестр подарил Одесской опере. Ну словом, подходящая была фигура для превознесения и восхваления ее. Сокровищем великой классики и образцом неведомого миру симфонизма обозначили его творения умелые и быстрые музыковеды. И музыку его включили в качестве программы обязательной в репертуар всех государственных оркестров. Тиснута была заметка горделивая в Большой советской энциклопедии. А диссертаций написали по его произведениям – без счета и числа. И длилось это девять или десять лет. Пока, не вынеся психологической нагрузки, не признался композитор Михаил Гольдштейн, что отнюдь не сочинения он отыскал в архиве некогда, а всего лишь – пожелтевшую со временем пустую нотную бумагу. А ту симфонию великую он сам и сочинил, и записал. Сначала вспыхнувший скандал замять пытались замечательно привычно: посадить решили наглого мерзавца. Даже с обыском приехали (после допроса многочасового). И хотели порнографию пришить, поскольку отыскалось некое изображение прелестной голой бабы. Мигом привезли искусствоведа. Только тот, козел нерусский, сразу же сказал, что это просто репродукция с известнейшей картины и в любом альбоме живописи есть. А больше им придраться было не к чему, но все же обещали посадить. По счастью, все закончилось газетным фельетоном, и шумиха мягко рассосалась. Кстати говоря, большую пользу принесла эта история авантюристу-композитору: коллеги принялись ему заказывать различные сюиты и сонаты, и весьма он процветал как музыкальный негр. А платили – много и исправно.