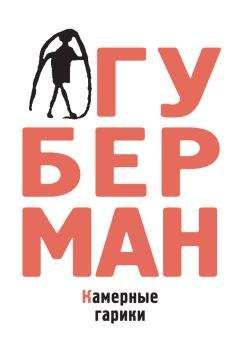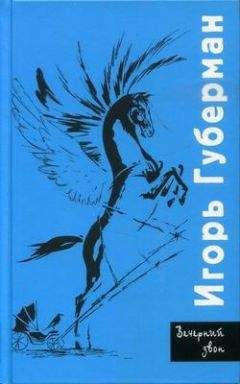– Лютым антисемитизмом это пахнет, – с омерзением сказал один из слушавших.
– С какой же мы, евреи, беспощадностью к себе относимся, – сказал другой. – И сами же плодим к нам неприязнь своими шутками.
– А мне до лампочки, кто как ко мне относится, – заметил третий. – Я в Израиле живу, а это они там, в галуте, так чувствительны к насмешке.
Лично я – настолько беспринципное создание, что, кроме любопытства, никаких я не испытываю мерзких ощущений. Мне смешно бывает от любой случайной встречи с образом еврея в будничном сознании всемирном. В одном из городов российских мне прислал записку слушатель. Он, будучи в Японии, спросил у собеседника из местных, есть ли тут евреи. И, подумав, медленно ответствовал японец, что, насколько он осведомлен, евреев нет в их стране, но есть зато японцы – много хуже, чем евреи.
Мне разводить полемику не хочется, да тут она и ни к чему. К тому же, как и что ни обсуждай, а отношение к евреям (и к Израилю) – единственное, что наверняка и навсегда останется кристально прежним в нашем изменяющемся мире. В этом смысле я – неколебимый оптимист.
Однако, начавши повествовать о мне родном народе, я обычно не могу остановиться. Но сейчас, гуляя глазом по клочкам (а я, словно пасьянс, раскинул все эти бумажки по столу), я не видел там одну историю. О чем она, никак не вспоминалось, только было ощущение, что тесно соотносится она – с тем перечнем о тараканах. И даже помнил, что с последним пунктом: общая тревожность. Потому что я тогда же автору сказал, что слово «настороженность» тут будет поточней, поскольку речь идет о чутком уловлении опасности, а это чувство у евреев безусловно развивалось за кошмарные века гонений. И подумал, что у тараканов – тоже, и опять беспечно засмеялся.
Но о чем же все-таки история? И мне еще казалось почему-то, что она скорее связана с пугливостью. И нечто прямо противоположное, конечно, в голову полезло: то бандиты Бабеля, то гангстеры Америки, невероятное количество (на первом месте по империи) Героев Советского Союза во Вторую мировую, и бесчисленные криминалы с Брайтон-Бич. Вот это уже было где-то рядом. Да, тепло, тепло, еще теплее. Я вдруг вспомнил, как стоял я на огромной деревянной мостовой, что тянется на Брайтоне вдоль моря, и заглядывал в большую (метра два в диаметре) прожженную дыру. На берегу, наверно, кто-то разводил костер, и искры взвились высоко наверх – а метра на четыре выше пролегал этот прогулочный помост над берегом. Уже вокруг дыры стояли колышки с нацепленной на них широкой красной лентой, чтоб никто не сверзился случайно. Тут возле меня остановились двое, тоже заглянув в эту дыру. Чему-то оба разом засмеялись, и один из них задумчиво сказал:
– Конечно, ебнешься прилично, но зато какую денежку получишь по суду!
И я внезапно вспомнил: у меня эта история уже давно была в блокноте, я ее наутро в поезде переписал, боясь, что потеряю драгоценную вчерашнюю салфетку. И речь шла о пугливости, которая за годы сделалась хронической у некоего симпатичного еврея. Жил он в очень большом городе, а там куда острее проникает в душу страх. Он пережил тридцатые, ушел на фронт и воевал отважно (там-то ничего он не боялся). А потом вернулся на родной завод, пошел конец сороковых, пятидесятые, пустое дело – лишний раз напоминать, какое это было время для еврея даже заводского. Он чего угодно ожидал от той кошмарной кодлы, что именовалась властью, избранной народом. А сыновьям ничуть не передался его страх, поэтому за них боялся он сильней всего. А сыновья любили вспоминать его же собственный рассказ о том, как в ранней юности ему однажды предсказала старая цыганка: ты, милок, три раза в своей жизни пролетишь мимо богатства и не остановишься. И сам еврей-отец, об этом вспоминая, улыбался. А году в шестидесятом (или чуть попозже) у него отгул был за ночной аврал в конце месяца, и дома он сидел с газетой, когда в дверь звонок раздался. Кто там? Это адвокат из Инюр-коллегии, ответил симпатичный мужской голос. Я по делу о наследстве – и назвал фамилию и имя его тетки. А она еще в двадцатых вышла замуж и уехала в Америку, и сколько б он анкет за жизнь свою ни заполнял, а тетку-иностранку не назвал ни разу. И, нестихающей пугливости своей послушно повинуясь, тонким детским голоском сказал он, что никого нет дома. И забился в дальней комнате, пережидая, пока кончатся недоуменные звонки. А много лет спустя, уже в Америке, доподлинно установили сыновья, что было в самом деле очень крупное наследство, только при неявке или же отказе адресата все оно уходит на общественные нужды. В Америку уехал наш герой за сыновьями, был уже он пожилой пенсионер, и преданность семье преодолела страх отъезда. Он однажды заикнулся, что ни разу не был в казино, и, за покупками собравшись, двое сыновей с их женами его закинули в игорный дом. Купили ему несколько жетонов, посадили к автомату и велели через два часа ждать их на улице. И, возвращаясь, подобрали старика, он там стоял, их ожидая, – два часа без десяти минут. Едва лишь кинул он жетон, весь автомат взыграл огнями, стала музыка играть, и, словно горная река, посыпались в немыслимом количестве жетоны. Но к той секунде, когда их журчание затихло, старый перепуганный удачник был уже давно на улице. Уверенный, что как-то ненароком он сломал эту казенную машину, ждал он тут погони и возмездия. И сыновьям об этом сразу виновато рассказал. Они немедля кинулись за выигрышем (там порой с полмиллиона набегает), но уже все было тихо, пусто и никто не видел ничего. И даже не ругали старика, а просто вспомнили еще раз предсказание цыганки. А спустя полгода или год пошел сей не утративший пугливости еврей в огромный по соседству расположенный торговый центр. А там решил в уборную пойти. Известный ему путь лежал через довольно узкий коридор, где обогнул он лестницу-стремянку: двое работяг подвешивали к потолку большой плафон стеклянный. А когда старик-удачник шел назад, то лестницу уже убрали, а поставленный плафон обрушился на лысину его. Описывая эту ситуацию, я вспомнил, как недавно некая лихая старушенция содрала по суду немыслимые деньги за горячий кофе, расплескав который будто бы ожог она приобрела. А за плафон (и кровь была) – легко себе представить, сколько можно было получить. Когда бы тот еврей стремглав не убежал. И только поздно вечером об этом сыновья узнали, было уже поздно учинять разборку. И где свидетелей найдешь? А непрошедшая пугливость старого еврея – она ведь восходила к тем далеким временам, когда вполне естественно укоренилась навсегда. Еще заметьте, как точны цыганские прогнозы!
Испуг пожизненный рождает замечательные мифы. Мне один такой когда-то рассказала теща. К ней в конце сороковых захаживал изрядно старый ювелир, свою продукцию он разносил клиентам на дом. К теще он расположился и однажды доверительно сказал ей:
– Лидия Борисовна, я вижу, вы интересуетесь камнями, так я вас хочу предупредить: опалы никогда не покупайте. Опал коварен и влиятелен. Мне мама говорила, когда я на ювелира еще только-только обучался: Наум, бойся опала, от него приходят неприятности. Но я был молодой, азартный, и весной семнадцатого года, помню точно – я купил задешево большую партию опалов. И вы помните, конечно, что случилось в том году?
Мне стоит соскочить к историям, которые рассказывает теща, и от темы я немедля отвлекаюсь, опасаясь позабыть. Сейчас я вспомнил, как однажды к ней в квартиру позвонила рано утром женщина с большим букетом цветов.
– Дорогая Лидия Борисовна, – сказала эта незнакомка, – я вас слушаю по радио и очень вами восхищаюсь. Я давно хотела вам преподнести цветы, я знала дом, в котором вы живете, но квартиру я не знала и стеснялась у кого-нибудь спросить. А тут иду мимо, и какое счастье: на дверях подъезда вывесили список злостных неплательщиков оплаты за квартиру, и я сразу увидала ваше имя!
А еще про тещу рассказал мне как-то поэт Межиров, ее когдатошний сосед по даче в Переделкине. Он позвонил с известием довольно неприятным:
– Лидия Борисовна, у вас тут ночью дачу обокрали. Дверь взломали. Я вот утром это обнаружил.
– Ой, спасибо, Александр Петрович, – поблагодарила его теща, – это же такое счастье, я как раз недавно потеряла ключ!
Еще хочу я непременно обсудить одно свидетельство, мелькнувшее немного выше – вряд ли на него читатель обратил тогда внимание. Припомните, пожалуйста, историю о недалеком пожилом еврее, затаившем жгучую обиду, что его не взяли в эскадрилью, собиравшуюся на бомбежку Тель-Авива. Врал он или нет о том, что намечалась эта акция? Похоже, что не врал, об этом и хочу я рассказать.
Здесь у меня товарищ есть, великий врач, сосудистый хирург. Еще в Союзе был Эдик Шифрин самым молодым доктором медицины. И уже тогда он был известен тем, что очень хорошо лечил трофические язвы – ту беду, что образуется на теле вследствие плохого кровообращения. Однажды у парадного подъезда института, где тогда работал Эдик, тормознула черная начальская машина, и два молодых человека вежливо пригласили профессора Шифрина поехать с ними. Да, с руководством института согласовано, кивнул один из них. Куда его везут, он не спросил, а оказался – на большой правительственной даче. Это нынче кто ни попадя выстраивает загородный замок, а тогда все сразу становилось ясно, на такую дачу попадая. В пустоватой и просторной комнате стояла ширма, а из-за нее, высовываясь до колена, чья-то голая нога располагалась на подставленном ей стуле. И закатанная виделась штанина. На ноге чудовищные были язвы ясного для Эдика происхождения.