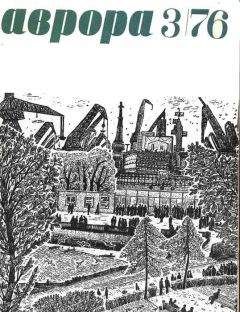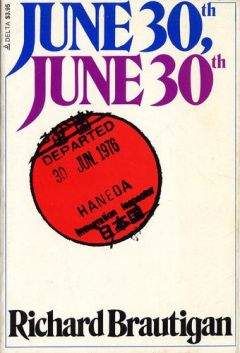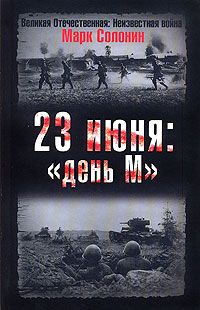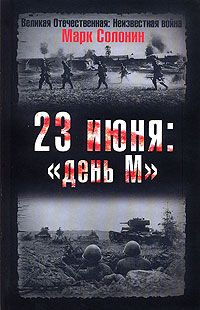— Вот потому-то я с ним и познакомилась.
— Не понимаю.
— Струнный квартет отца выступал в одном американском госпитале, в психиатрическом отделении — там отец разговорился с Элиотом и решил, что из всех американцев, с кем ему приходилось встречаться, Элиот самый нормальный. Когда Элиоту позволили выходить, отец пригласил его к нам на обед. Помню, как отец представил его: «Я хочу, чтоб вы познакомились с этим американцем. Он единственный из всех своих соотечественников заметил вторую мировую войну».
— Что ж он такого говорил, что его сочли самым нормальным?
— Да дело даже не в том, что он говорил, важно другое — какое он производил впечатление. Отец, помню, рассказывал о нем: «Этот молодой капитан, которого я пригласил, презирает искусство. Представляешь? Презирает! Но презирает по таким причинам, что я не могу не уважать его за это. Насколько я понимаю, он утверждает, что искусство его предало. И должен признать, что человек, который, как говорится, по долгу службы заколол штыком четырнадцатилетнего мальчика, имеет право так говорить». Я полюбила Элиота с первого взгляда.
— Не можете ли вы употребить какое-нибудь другое слово?
— Вместо чего?
— Вместо слова «любовь».
— Разве есть слова лучше?
— Оно было отличным словом, пока Элиот не начал склонять его. Для меня оно вконец испорчено. Если Элиот собирается любить всех подряд, кем бы они ни были, чем бы ни занимались, то те из нас, кто любит определенных людей по определенным причинам, должны будут подыскать для этого чувства какое-то новое название.
Он поднял глаза на портрет покойной жены, написанный маслом.
— Вот пример: ее я любил больше, чем нашего мусорщика, значит, меня можно обвинить в самом чудовищном из нынешних преступлений — в дис-кри-ми-на-ции!
* * *
Сильвия устало улыбнулась:
— За неимением лучшего слова могу я пока пользоваться старым, хотя бы сегодня?
— В ваших устах оно еще не утратило смысла.
— Я полюбила его с первого взгляда в Париже, и сейчас, когда я думаю о нем, тоже люблю.
— Вам, наверно, довольно скоро пришлось убедиться, что вы заполучили себе в партнеры психа?
— Ну, он ведь пил.
— В том-то все и дело.
Сенатор сокрушенно поцокал языком:
— Как мало я пекся о моем детище! — Лицо его дрогнуло. — Только в прошлом году добрался до того нью-йоркского психиатра, который лечил Элиота психоанализом. Кажется, до всего, что связано с Элиотом, я добирался с двадцатипятилетним опозданием. Дело в том, что мне… словом, я никак не мог взять в толк, что такой великолепный организм может дойти до столь плачевного состояния!
Мушари сгорал от желания узнать побольше клинических подробностей о недуге Элиота, но не подавал виду и напряженно ждал, когда кто-нибудь попросит сенатора рассказывать дальше. Но поскольку все молчали, пришлось ему самому рискнуть:
— И что же сказал доктор?
— Этот чертов доктор сказал, что Элиот с ним ни черта не обсуждал — только всякие общеизвестные исторические факты, по большей части об угнетении бедных или разных недотеп. Он сказал, что не может определить болезнь Элиота, любой диагноз был бы с его стороны безответственным домыслом. И тут я, до глубины души встревоженный отец, заявил ему: «Не стесняйтесь, домысливайте о моем сыне сколько угодно и что угодно! Я не потребую с вас ответа. Сам я об Элиоте столько разных мыслей передумал — и верных и неверных, и с полной ответственностью и безответственных — давно уже голову устал ломать! Возьмите-ка свою ложку из нержавеющей стали, доктор, — сказал я, — да помешайте хорошенько в мозгу у меня, несчастного старика».
А он ответил:
— Прежде чем перейти к моим безответственным домыслам, я должен немного побеседовать с вами о половых извращениях. И в этой беседе мне придется коснуться Элиота. Так вот, если это может подействовать на вас слишком сильно, лучше закончить наш разговор сейчас.
— Продолжайте, — сказал я. — Я старый тетеря, а есть мнение, что старые тетери все стерпят, их ничем не проймешь. Раньше я в это никогда не верил, но сейчас готов испробовать.
— Ну ладно, — начал доктор, — считается, что для всякого здорового молодого человека нормально испытывать влечение к привлекательной женщине, если только она ему не мать и не сестра. Если же его тянет к иному, скажем, к другим мужчинам, или к зонтикам, или к овцам, или к страусовому боа императрицы Жозефины, или к покойникам, или к родной матери, или к стибренному дамскому поясу с подвязками, тогда мы относим его к извращенцам.
Впервые за много лет меня обуял ужас, и я признался в этом доктору.
— Прекрасно, — отозвался он, — нет для медика более сладостного удовольствия, чем довести ничего не понимающего человека до замирания от ужаса, а потом снова вернуть ему спокойствие. У Элиота, несомненно, тоже в этом смысле не все в порядке, но его сексуальная энергия устремилась не в таком уж страшном направлении.
— Куда же? — вскричал я, и хоть сам тому противился, уже представил себе, как Элиот крадет дамское белье, исподтишка отстригает в метро у женщин прядки волос, подглядывает за любовниками. — Сенатор от штата Индиана содрогнулся. — Не скрывайте от меня ничего, доктор, говорите! На что устремил Элист свою половую энергию?
— На Утопию, — ответил доктор.
От разочарования Мушари чихнул.
* * *
Телефон прозвонил три раза.
— Фонд Розуотера. Чем мы можем вам помочь?
— Мистер Розуотер, — последовал сварливый ответ, — вы меня не знаете.
— Разве это имеет значение?
— Я ничтожество, мистер Розуотер. Хуже ничтожества.
— Выходит, создатель схалтурил?
— Вот именно, когда состряпал меня.
— Ну что же, возможно, вы с вашими жалобами попали как раз по адресу.
— А что у вас там такое?
— Как вы узнали про пас?
— Тут, в телефонной будке, большая наклейка, черная с желтым: «Не спешите расстаться с жизнью. Звоните в Фонд Розуотера». И номер вашего телефона.
Такие наклейки красовались во всех телефонных будках округа, а также на задних стеклах легковых в грузовых машин многих пожарников-добровольцев.
— Знаете, что здесь приписано снизу карандашом?
— Нет.
— «Элиот Розуотер — святой. Он одарит вас любовью и деньжатами. А предпочитаете лучший в Южной Индиане зад, звоните Мелиссе». И тут же номер ее телефона.
— Вы, видно, здесь чужой?
— Я везде чужой. Но вы-то все-таки кто? Из секты какой-нибудь?
— Вдвойне блаженный детерминист-баптист.
— Что?!
— Так я обычно отвечаю, когда меня выспрашивают, какой я веры. Такая секта в самом деле есть — и, вероятно, неплохая. Они практикуют омовение ног, а денег за это не берут. Я тоже мою себе ноги и денег не беру.
— Не понимаю, — сказал неизвестный.
— Да я просто даю вам понять, что нечего стесняться, нечего со мной умничать. Вы сами случайно не из этих «вдвойне блаженных»?
— Боже сохрани!
— А вообще-то их человек двести, и рано или поздно я на одного из них нарвусь. — Элиот отпил из стакана. — Подумать страшно, что тогда будет, однако никуда не денешься!
— Похоже, вы под мухой. Вроде только что хлебнули.
— Допустим, так и есть. А все же — чем мы можем вам помочь?
— Да кто вы такой, черт побери?
— Ку, правительство.
— Чего-чего?
— Правительство. Если я не церковь и все же стремлюсь удержать людей от самоубийства, выходит, я правительство. Так?
Неизвестный что-то пробормотал.
— Или же общественная слезоутиральня, — сказал Элиот.
— Вы что, шутите?
— Как знать! Не верите — проверьте.
— Может, вы себе такую потеху придумали — приманиваете своими наклейками людей, готовых с собой покончить.
— Вы-то готовы?
— А если и готов, так что?
— Я мог бы привести вам сногсшибательные доводы, что жить все-таки стоит. Но я этого не сделаю.
— А что сделаете?
— Попрошу вас сказать, за сколько — самое малое — вы согласитесь прожить еще неделю.
Ответа не было.
— Вы меня слышите? — спросил Элиот.
— Слышу.
— Если вы раздумали кончать с собой, то будьте добры — повесьте трубку. Этот телефон нужен не вам одному.
— Вас послушать — псих, да и только!
— Но кончать-то с собой собираетесь вы?
— А если я скажу, что и за миллион не соглашусь терпеть еще неделю?
— Я отвечу: ну и умирайте. Просите лучше тысячу.
— Идет, тысяча!
— Ну и умирайте. Спустите до сотни.
— Сто.
— Вот это другое дело. Заходите, поговорим.
Элиот назвал адрес своей конторы.
— Не пугайтесь собак у дома пожарной дружины. Они кусаются, только когда сирена воет.
* * *
Элиот сидел над громоздкой конторской книгой, которую обычно хранил под койкой. Книга была переплетена в тисненую черную кожу и содержала триста линованных страниц приятного зеленого цвета. Элиот звал ее своей «Книгой Страшного суда»[6]. С тех самых пор, как Фонд начал действовать в округе Розуотер, Элиот вписывал в нее имя каждого клиента, род его жалобы в принятые Фондом меры.