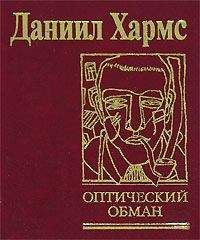смешно, что невозможно было удержаться. Все эти «бу-бу-бу да го-го-го, гу-гу-гу да буль-буль». Это, помню, когда он читал мне стихотворение «Веселый старичок».
Я говорила, что мне нравится, что я считаю не так хорошо, что лучше переделать, — ну какие-то детали.
Иногда я, прослушав, давала ему совет какой-нибудь. И он старался исправить, если соглашался со мной.
У меня был хороший слух, и я сразу схватывала, так сказать, ритм. И улавливала, если был сбой. Он на мне проверял написанное.
Сказать, что я ему помогала — слишком большое слово. Но если я говорила: «Это мне не нравится», он как-то прислушивался:
— Ну хорошо, подожди, я попробую, — и переделывал.
Но, конечно, это было не всякий раз.
Отец был каким-то образом в курсе того, что писал Даня, хотя я не припомню случая, чтобы Даня ему что-то свое читал. Тем более написанное не для детей, взрослое. Но Иван Павлович прекрасно знал, что пишет Даня. Как, откуда — не могу сказать, но знал. И то, что Даня писал, его раздражало. Он совсем не одобрял его.
Меня он называл Фефюлькой. Наверное, за малый рост.
Он писал стихи о Фефюльке и несомненно мне их читал, но у меня сейчас такое впечатление, что я их раньше не слышала и читаю впервые. Должно быть, я их просто забыла за давностью лет.
Хорошая песенька про Фефюлю
1.
Хоть ростом ты и не высока
Зато изящна как осока.
Припев:
Эх, рямонт, рямонт, рямонт!
Первакóкин и кинéб!
2.
Твой лик бровями оторочен.
Но ты для нас казиста очень.
Припев:
Эх, рямонт, рямонт, рямонт!
Первакóкин и кинéб!
3.
И ваши пальчики-колбашки
Приятней нам, чем у Латашки.
Припев:
Эх, рямонт, рямонт, рямонт!
Первакóкин и кинéб!
4.
Мы любим Вас и Ваши ушки.
Мы приноровлены друг к дружке.
Припев:
Эх, рямонт, рямонт, рямонт!
Первакóкин и кинéб!
Другое — как мне кажется, очень красивое — было прямо адресовано мне.
Марине
Куда Марина взор лукавый
Ты направляешь в этот миг?
Зачем девической забавой
Меня зовешь уйти от книг.
Оставить стол, перо, бумагу
И в ноги пасть перед тобой,
И пить твою младую влагу
И грудь поддерживать рукой.
Были, как теперь я вижу, еще и другие стихи обо мне. И если я привожу некоторые из них, то, конечно, не для хвастовства (вот, он мне стихи посвящал!), а чтобы было понятно, что наши отношения не всегда были такими, как когда всё шло к концу.
В рассказах Дани встречаются ошибки в грамматике, в правописании. Я думаю, он это делал специально. И это очень похоже на него, такие неожиданные штучки. Потому что, понятно, когда спотыкнутся на этом месте, люди начинают смеяться.
Одно время у нас вошло в обычай: несколько человек сговаривались и шли в воскресенье в Эрмитаж. Там были долго, но не весь день, подробно смотрели картины, а потом всей компанией шли в маленький бар, недалеко от Эрмитажа, пили пиво, закусывали чем-нибудь легким, — может быть, бутербродами, сидели там три-четыре часа, и говорили, говорили, говорили. Главным образом о том, что видели в Эрмитаже, но, конечно, не только об этом.
С Казимиром Малевичем я познакомилась, когда он уже умирал. Я виделась с ним, по-моему, всего один раз, мы ходили с Даней.
Но до этого Даня позвал меня на его выставку. Он сказал, что я непременно должна посмотреть его лучшую работу. Она до сих пор стоит у меня перед глазами: черный круг в белом квадрате, но я все же не берусь в точности описать ее. Все только и говорили об этой картине. И мы пошли с Даней на выставку и видели эту знаменитую картину.
А во второй раз я увидела Малевича уже после его смерти. Я была с Даней на похоронах.
Собралось много народу. Гроб был очень странный. сделанный специально по рисунку, который дал Даня и, кажется, Введенский.
На панихиде, в комнате Даня встал в голове и прочел над гробом свои стихи. Стихи были очень аристократические, тонкие.
На смерть Казимира Малевича
Памяти разорвав струю.
Ты глядишь кругом, гордостью сокрушив лицо.
Имя тебе Казимир.
Ты глядишь как меркнет солнце спасения твоего.
От красоты якобы растерзаны горы земли твоей.
Нет площади поддержать фигуру твою.
Дай мне глаза твои! Растворю окно на своей башке!
Что, ты человек, гордостью сокрушил лицо?
Только муха жизнь твоя и желание твоё — жирная снедь.
Не блестит солнце спасения твоего.
Гром положит к ногам шлем главы твоей.
Пе — чернильница слов твоих.
Трр — желание твоё.
Агалтон — тощая память твоя.
Ей Казимир! Где твой стол?
Якобы нет его и желание твоё ТРР.
Ей Казимир! Где подруга твоя?
И той нет, и чернильница памяти твоей ПЕ.
Восемь лет прощёлкало в ушах у тебя.
Пятьдесят минут простучало в сердце твоём.
Десять раз протекла река пред тобой.
Прекратилась чернильница желания