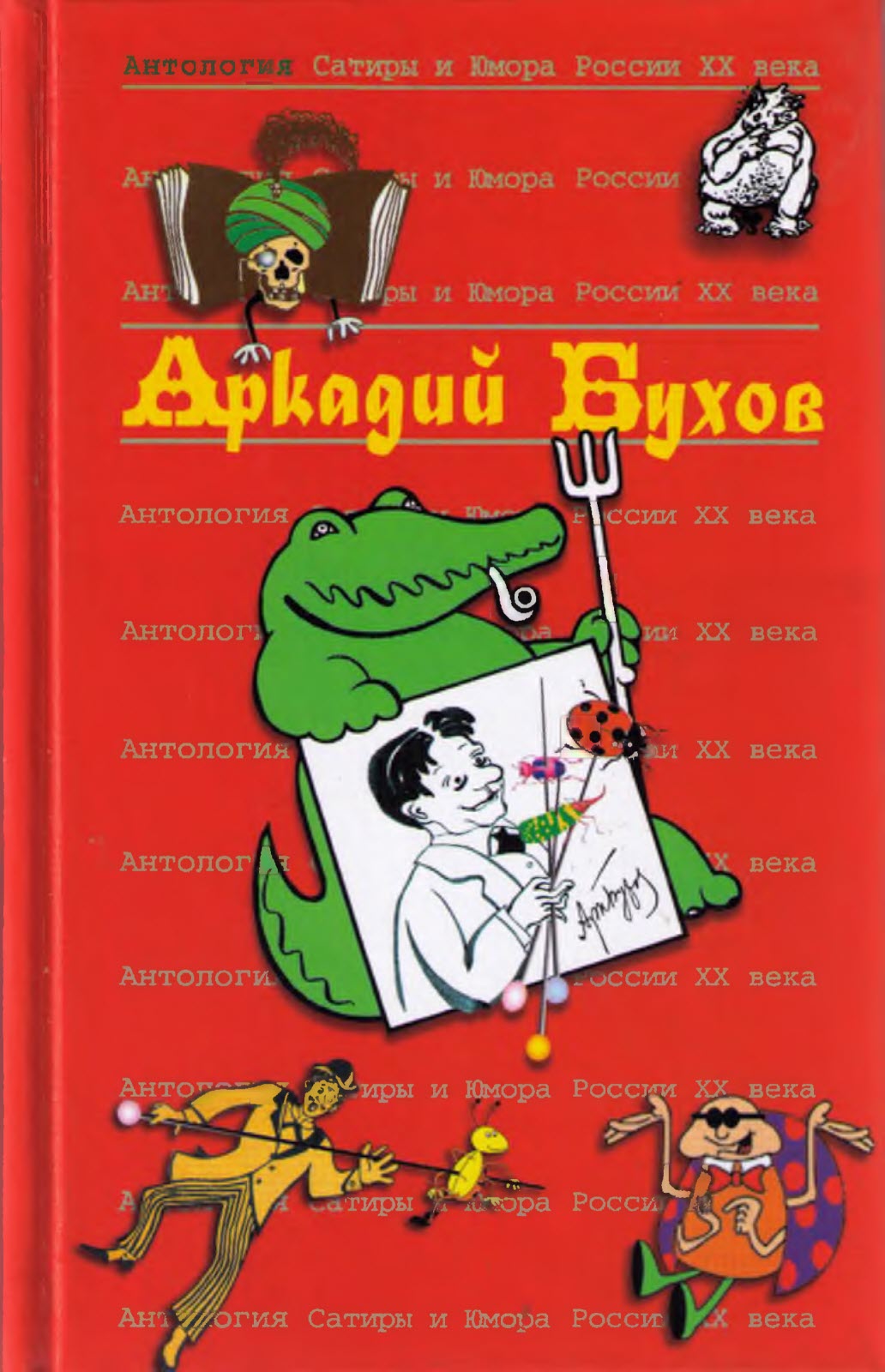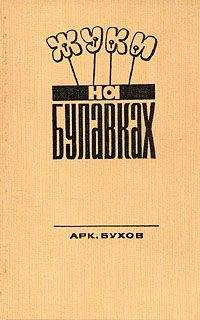ездят.
— Это ты прав. Особенно с простынями вместо паруса, которыми еще к тому же не умеют управлять…
Короче: поздно вечером нас привезли на грузовике, сердобольно захватившем нас домой. Ехали мы на дровах и без особого комфорта.
С приятелем моим мы теперь видимся с перерывами не менее чем в полугодие. Я знаю только одно, что он теперь не только не катается с парусом, но, когда при нем начинают застилать постель и он видит простыню, ему делается нехорошо и легкая краска покрывает его смуглые небритые щеки.
Что же касается меня, то на предложение покататься с парусом я отвечаю веселым и корректным поклоном и быстро выхожу из комнаты.
Обычно, когда какого-нибудь автора просят написать что-нибудь для эстрады, его извиняющимся голосом предупреждают:
— Только уж как-нибудь без этого… без литературщины… Без этих, знаете, тонкостей… Сами понимаете: эстрада…
Последняя фраза обыкновенно произносится с тем скорбным выражением, с каким шофер перевернувшегося такси, вылезая из-под машины, объясняет подбежавшим пешеходам:
— Сами понимаете: мостовая.
Поэтому у меня к эстрадным заказам всегда немного тревожное отношение. Несколько раз я пытался самостоятельно засесть за эстрадный репертуар и хорошо помню, какое гнетущее впечатление это производило на окружающих. Даже скромная и почтительная домашняя работница глухо ворчала перед невидимым для меня собеседником:
— Тише. черт… Не бубни… Хозяин острить сел. С жиру бесится… Лучше уж запил бы — всем спокойнее было бы…
Но однажды все же я засел писать по специальному заказу. Нужно было одному приятелю-эстраднику дать две веселых сценки для чтения. Я написал ему легкий разговор на свежие литературные новости и игривый диалог на иностранные темы. По-моему, я написал очень хорошо. К сожалению, это было чисто личное впечатление. Утром оно в значительной степени изгладилось, когда я принес приятелю обе вещицы.
— Послушай, — грустно сказал он, прочтя их и окинув меня сожалеюще-безнадежным взглядом, — это же «Война и мир».
— Мне кажется, — тихо возразил я, — это значительно короче и с несколько другим уклоном.
— Ну, «Обрыв», — уступил он и с чисто дружеской любезностью добавил: — Ну, «Отцы и дети», если хочешь, не говоря уже о «Портрете Дориана Грея»…
— Что же тебе здесь не нравится? — несколько обиженно спросил я.
— Все, — деловито подтвердил он, — начиная от той строки, которую принято считать первой, и кончая той, которую мы условились считать последней… Ты знаешь, — вдохновенно говорил он, смотря на мою рукопись, как на мышь, попавшую за рукав. — если бы я стал читать эту вещь, в публике началось бы редкое и любопытное соревнование: какой из рядов окажется наиболее сноупорным.
— Разве так нелитературно?
— Чудовищно литературно. Это похоже на труд молодого профессора по семинарию Достоевского. Исправь. Проще, ударнее, примитивнее.
Меня самого это заинтересовало. Я ушел домой и стал выправлять. Все мое остроумие я направил применительно к психологии стандартного конферансье, еще не прошедшего через комиссию по ликвидации неграмотности. Герои моих сценок острили так. что их выкинули бы из буфета небольшого вокзала подъездной железной дороги. Если бы я напечатал несколько таких вещей в журналах, мне бы пришлось через некоторое время переменить свою профессию литератора на не менее почетную, но в другом стиле, профессию смазчика вагонов.
На другое утро я снова был у приятеля.
— Это уже лучше, — одобрительно сказал он, пробежав рукопись, — это уже на что-то похоже. Такую вещь смело можно было бы прочесть на торжественном выпускном акте любого епархиального училища прошлого столетия. Исправь. Нужно попроще, примитивнее, понятнее… Помни — это эстрада.
— Ну, знаешь, — возмутился я, — больше уж я не могу… Нельзя же так, например, острить: «Умеете ли вы говорить по-французски? Нет? Ну, тогда дайте мне взаймы три рубля».
— Как ты сказал? — удивился он, быстро доставая бумагу и карандаш. — А ну-ка, повтори…
— Я говорю, — уже возмущенно кричал я, — что нельзя писать таких острот… Ты еще выйди на эстраду и заяви: «А я, знаете, лучше всякого авиатора — без пропеллера могу со службы вылетать…»
— Погоди, погоди… Как, как? — И рука его быстро бегала по бумаге.
Возмущенный его тупостью и чувствуя себя оскорбленным как автор, я осыпал его теми седобородыми остротами примитивного характера, за которые не подают руки даже и в самых захолустных городах.
Он блаженно улыбался и записывал…
— Надеюсь, что ты все-таки придешь на мое выступление завтра, — уже заискивающе попросил он, когда я взялся за шляпу.
В глазах его я заметил какое-то странное выражение почтительности и удивления.
— Хорошо, — проворчал я, — зайду.
Я действительно пошел. Мой приятель выступал четвертым номером. Он вышел, напудренный и эффектный. Зал замер выжидающе.
— Встречаются, — начал он, — два гражданина. Один из них спрашивает: «Говорите ли вы по-французски?» — «Нет», — отвечает другой. «Ну и великолепно, тогда дайте мне три рубля взаймы…»
В зрительном зале наступила тяжелая пауза. Кто-то порывисто крякнул и зашелестел газетой.
— А вот, — уже более робко продолжал приятель, — встречаются два человека. Один грек говорит другому греку: «А как вылетишь без аэроплана?» А другой грек говорит…
Вторая пауза оказалась еще более тяжелой. Зрители стали конфузливо переглядываться. Я осторожно вышел. Через полчаса я встретил приятеля около вешалки. Он сердито надевал калоши. Увидев меня, он развел руками и обиженно сказал:
— Не приняли. Не понимаю, что сделалось с публикой.
— Поумнела, — сочувственно вздохнул я, — ничего не поделаешь. Не тебе одному трудно.
Он растерянно посмотрел по сторонам, махнул рукой и ушел.
С этих пор я никогда не пишу для приятелей эстрадного репертуара.
ТАИНСТВЕННЫЙ ХУЛИГАН
(1935)
Своим грязным унынием дом напоминал пьяного, который проснулся на заднем дворе и с тоскливой обидой припоминает, кто именно из недавних собеседников выкупал его в луже. Антенны на крыше стояли криво и беспомощно, как остатки частокола на огороде, в котором побывали свиньи. Краска сползла со стен. Около ворот была выбоина, похожая на дупло в зубе старика. И только волнообразные накопления мусора и неподобранного утиля во дворе напоминали о том. что дом широко обитаем.
И вот именно в таком прозаическом доме и произошло то таинственное событие, о котором нам придется рассказать.
Нить этого события начала распутывать председательница санитарной тройки Нина Ивановна Дубник. Речь ее на экстренном заседании правления жакта, созванном по поводу запоя истопника Демидыча, была коротка и деловита.
— В нашем доме, — сказала Нина Ивановна, сверкнув неумолимым взглядом сквозь стекла пенсне, — в нашем доме завелся хулиган. Я это утверждаю от лица домовой общественности.