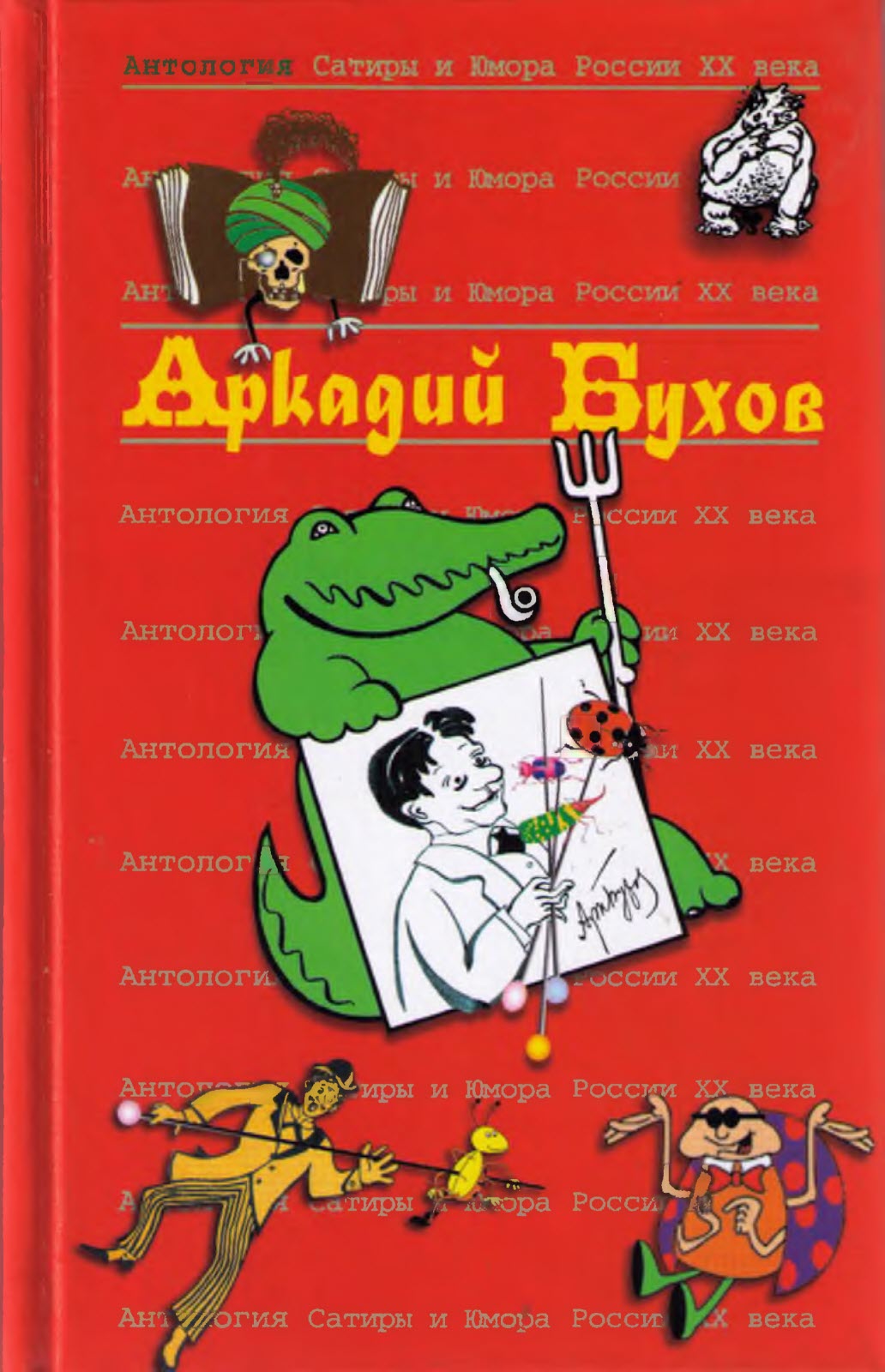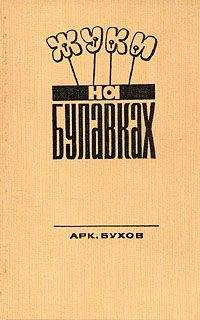class="p1">— Ты, кажется, что-то скрываешь…
— У него, может быть, есть причины скрывать от нас, — зловеще вмешалась жена, — но мне кажется, что только уже не прислуга…
— Что прислуга?
— Прислуга, которая так в курсе дел… Мы приходим, а она уже изволит докладывать: у барина любовница сидит…
— Ей-Богу же, это…
— Это, конечно, твое дело, ты не маленький, но ты так упорно твердил, что целые дни работаешь…
— Да я, право же…
— Да ты не оправдывайся, смешно… Ну, пока прощай… Заходи…
— Вы ко мне…
— Да теперь к тебе неловко… Еще помешаешь…
VI
Тяжелый дубовый клин нельзя вынуть сахарными щипцами. Его можно выбить только клином.
— Знаете что, Наталья Михайловна, — сказал я ей при последней, сильно зависевшей от нее. встрече, — вы завтра будете звонить ко мне?
— Буду.
— Не надо. Пожалуйста, не звоните.
Она с удивлением посмотрела на меня:
— Странно. Вы, может, хотите, чтобы я приехала сама?
— Именно не хочу. Понимаете, что значит: не хочу?
Она пожала плечами.
— Это же нахальство говорить женщине…
Я немного подумал и мягко ответил:
— Пожалуй, вы правы. Это нахальство.
— Вы меня хотите удивить и тем самым…
— Ничего не хочу. Понимаете?..
— Удивляюсь… В таком случае…
— Ну, что там… Прощайте…
— Прощайте… Только я думала…
— Что там думать…
* * *
Больше я не видел Натальи Михайловны. Кажется, года через два я встретил одного приятеля, который млел и сох около нее.
— О тебе часто говорим, — сказал он.
— А что? Рассказывает что-нибудь?
— А как же… Ты только не сердись… Все рассказывает. Чудак, говорит, он… Влюбился и нарочно придумал какую-то историю, чтобы поссориться…
— А тебе что она — нравится?
— Да нечего, брат, скрывать… Как и ты в свое время… Непосредственная такая, целостная натура, искренняя. Я теперь около нее живу. С родными из-за нее разошелся да и с приятелями тоже… Оригинальная женщина…
Иногда я думаю: почему мы защищаем себя от дождя, грозы или ветра, и никто не додумался до какой-нибудь примитивной защиты от непосредственных, оригинальных натур, влезающих в чужую жизнь. Тем более что и то средство, которое я испробовал, нельзя назвать особенно плохим…
Для людей со здоровым организмом и крепкими нервами. которых нельзя добить одним ударом, кто-то придумал верное и непоборимое средство и назвал его рассрочкой.
Впервые я познакомился с этим издевательством над свободным и независимым человеком несколько лет тому назад.
В теплый июньский вечер, когда я нетерпеливо дожидался звонка, после которого все становилось лишним, у людей перепутывались лица и фамилии, а извозчики, тупо ухмыляясь, могли брать любую сумму, подсказанную им не столько практикой, сколько несложным воображением, за доставление меня к только что обусловленному по телефону месту, — в этот вечер ко мне в кабинет вошел какой-то робкий человек в рыжем пальто и, несмело кашлянув, положил передо мной большую книгу в красивом и богатом переплете.
— Это может служить украшением книжного шкафа, — не то вопросительно, не то утверждающе сказал он, — великий писатель, который…
— Я не хочу украшать своего книжного шкафа, — недовольно ответил я, — и вообще у меня нет сейчас денег.
Мой ответ не поразил его оригинальностью. По-видимому, все люди, с которыми он так знакомился, старались показать себя в его глазах гонителями печатного слова и скорбно умирающими нищими.
— Не надо денег, — ласково кинул он, — вы только скажите. что вам нравится, и завтра же первые шесть томов… Скажите ваш адресок.
У меня не было оснований скрывать пред ним своего адреса: моя скромная трудовая жизнь позволяет мне говорить о нем открыто даже малознакомым людям. На этот раз моя откровенность оказалась пагубной.
Не помню, чем кончился наш разговор в этот день, но на другое утро тот же человек настойчиво сидел у меня в столовой и дожидался, пока я встану.
— Здравствуйте, — вежливо приподнялся он при моем появлении со стула, около которого жутким возвышением лежали первые шесть томов чьего-то полного собрания сочинений, — вчера вы изволили сказать…
— Я же вам сказал, что вынимать такие деньги…
— Шестьдесят рублей, сразу, за книги? — почти с ужасом спросил он, на мгновение входя в мою психологию, — это в такое время… Да что вы… Дайте три рубля.
Я немного опешил. Незнакомый человек предлагал мне сделку, явно не выгодную для него даже с первого взгляда. Но костюм и подчеркнуто-скромное выражение лица не позволяли видеть в нем мецената. Предлагать мне что-то в двадцать раз дешевле номинальной стоимости — это было до того коммерчески непонятно, что я смог это объяснить или усталостью моего собеседника и желанием его окончательно бросить свою профессию, или же грубо замаскированным стремлением поймать меня на чем-то примитивно-понятном. Поэтому я осторожно спросил:
— Три рубля? Сразу?
— Сразу.
— Ага… А, может, они старые, эти книги ваши…
— Прошу посмотреть… Переплетики клеем пахнут…
— Вид, действительно, новый… Может, они так старые…
— Как старые, извините?
— А так, вообще… А остальные когда?
— Деньги? А это не беспокойтесь. Рубль в месяц — деньги небольшие…
— Рубль? И все книги у меня сейчас так и останутся? — недоверчиво спросил я.
— У вас. По первым числам буду заходить…
За три рубля, после его ухода, я любовно вложил в книжный шкаф шесть роскошных книг; одну из них потом вынул, положил на стол и провел около часа в тихих радостях чувства собственности.
«Чудак, — ласково, мысленно улыбаясь, думал я, — за рубль в месяц такую прелесть… Вот случай-то…»
Если бы кто-нибудь мог в этот момент заглянуть мне в душу, он понял бы, что яд рассрочки начинал действовать, разрушая прежнее представление о жизни и ее трудности.
Через неделю я уже был у портного и заказывал в рассрочку два дорогих костюма и пальто. Меня почти до слез трогали наивная доверчивость и внутренняя доброта этого человека, предлагавшего мне все лучшее, что у него было в магазине.
— Вы видите, — показывал он на какую-то материю, которую раньше добродушно называл русским хламом, — это морем пришло… Английская, лучшая… Море, мины, подводные лодки, а она идет и идет… Весь Лондон в ней ходит… Посмотрите только пломбу: разве же это не пломба?
— Сколько же она стоит? — нерешительно спрашивал я.
— Эта материя? Эта вот, с пломбой?
— Да, с пломбой.
— Цены ей нет, этой материи, Я же вам говорю — такое время и вдруг морем…
— Но все-таки?..
— Он еще спрашивает… Дайте десять