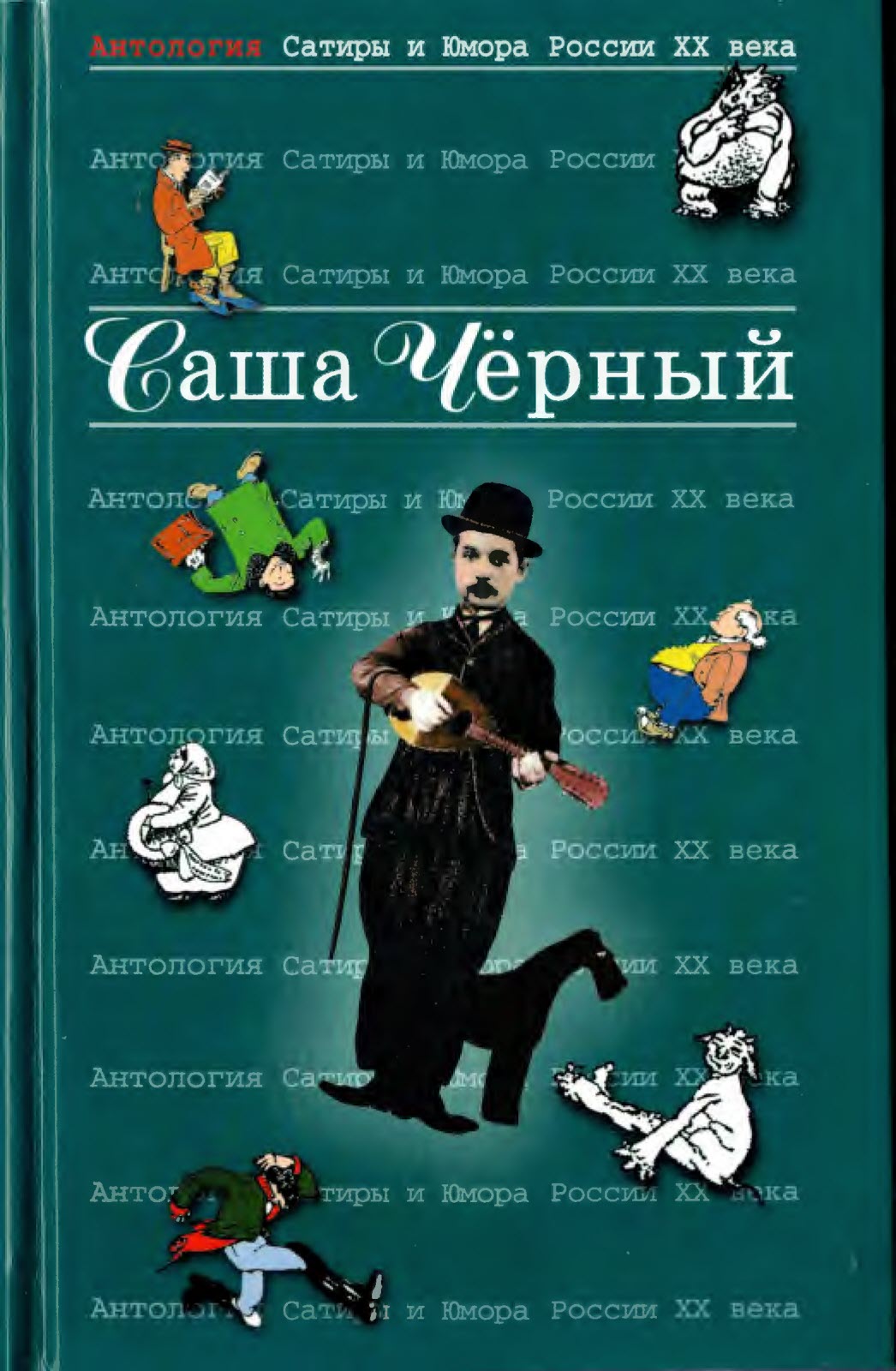Господи, не знал он раньше, до чего жизнь хороша!
За толстыми боками морского зверя тяжко переваливались валы. Ночь ли там над морской пустыней, сияние звезд и лунная дорога или синий день, хоровод облаков и любимый берег вдали?..
Закачала тьма Иону. Сна нет. смрад к душе подступает. Лучше уж в могиле, хоть печаль не сосет! Пал он в уголке на лицо и стал молиться — не славословил, не благодарил, — а горько жаловался первый раз в жизни:
— Каюсь, Господи, согрешил! Трудно мне со злыми, истомился. Уходил от них — а Ты не велишь. Тебе одному служил, а Ты отвернулся. Разве серне укротить гиен? Не люблю я их, прости меня старого. Кротких люблю, чтущих Тебя люблю, искал их на всех путях (мало их. Господи!) и где только находил, разве не делил я с ними и беду и светлые дни? А Ты вот все о разбойниках печешься… Грешен, обманул Тебя: думал, что серный дождь для них лучший учитель, чем я… Что ж — Тебе виднее. Каюсь, Господи, пусть будет по-твоему. Пойду!
Освободи только из смрадной тьмы, дай ступить на зеленую землю, — пойду и исполню…
Спрятал Иона голову в душную козью шерсть и заплакал беззвучно и кротко.
Гул прокатился над заалевшим утренним морем. Гулко в испуге ударил левиафан плоским хвостом. Ударил хвостом и понесся, сам не зная куда и зачем, фыркая и играя, к тихому берегу. С разбегу выкатил скользкую голову темной глыбой на песок, раскрыл жирную пасть и выбросил Иону головой вперед как раз за тем мысом, откуда корабль отчаливал.
Оглянулся Иона: солнце! Левиафана нет, только белые стружки вдали по воде закружились. Три дня и три ночи протомился в темном зверином чреве, но показалось ему, что долгие годы протекли. Быть может, и Ниневеи уже нет, и уйдет он опять к потокам и скалам доживать свои старые дни?..
Шел Иона, отдыхал и снова шел, и вот на исходе третьего дня показались вдали пыльные сады и плоские кровли Ниневеи.
* * *
Тою же дорогой вернулся из Ниневеи Иона. Спускался к морю скалистой тропой на ночлег и сердито ворчал: усмирил! Уж они его попомнят: гремел, как лев в пустыне, струпьями проказы грозил источить все живое, иссушающий ветер звал на их сады и источники, гром — на их кровли, мор — на их скот, саранчу — на их поля… Покаялись. Только бичом страха и можно их к Господу пригнать. Надолго ли? И зачем? На что Ему такие — только сердце об них иступишь, на веревке к добру притащишь, а там, гляди, веревку перегрызут — и опять начинай сначала.
Шел Иона, угрюмо смотрел на свои пыльные ноги, — трудно ему было понять своих злых братьев, и не радовал его тяжелый подвиг, который выполнил он по Божьему слову… А вечерняя тишина, и морская свежесть, и двурогая луна над головой делали свое: замедлял шаги Иона, смотрел и не мог насмотреться и утешался, что вот он снова один и никуда ему идти больше не надо.
И вдруг за выступом скалы остановился: лежит на земле ястребенок, из гнезда выпал, пищит, клюв разевает и слабые крылья топорщит. Улыбнулся Иона, взял птенца на ладонь, поднял к глазам: цел! Полез вверх по шатким камням, по писку нашел гнездо, уложил ястребенка среди двух таких же писклявых и, довольный, той же дорогой спустился к подножию. Расстелил плащ под скалой, вытянул усталые ноги и уснул.
И опять посетил его во сне Господь:
— Ну что, Иона, сетуешь?
— Сетую. Господи, прости уж…
— А ты бы, Иона, не пощадил?
— Не пощадил бы, Господи!.. Уж Ты который раз их пугаешь. Покаются — а потом еще пуще грешат.
— Вот ты какой строгий. Что ж ты ястребенка-то пожалел? Разве он добрый? Подрастет — станет других птиц бить, кровь проливать. А, Иона?
Обиделся Иона: «Да ведь Ты же его сам создал, Господи!» Но разве кто из праведников Господа переспорил?
— Создал… Щедрой рукой чего не создашь… А подумал ли ты, что в Ниневеи сто двадцать тысяч живых душ? Не все же псы. Из ястребенка — только ястреб и вырастет, а человек — то змей, то голубь. — как повернуть. Авось уймутся… И дети там растут — как же им без матерей и отцов подняться? Истребить легко, да тогда и создавать не стоило.
— Что ж, может, и не стоило, — печально вздохнул Иона.
— Ну это уж не твоего ума дело. Это мне знать, а не тебе. А ты. Иона, не сетуй, а люби. Так ли?
— Так, Господи… — смутился Иона и проснулся, и до светлого утра размышлял.
А как первый свет брызнул в глаза, понял он, что мудрость жалости порой глубже мудрости гнева. Встал, взял посох и пошел к шумящему морю.
Обогнул мыс Иона, смотрит, — вот чудо. Тот корабль, на котором он бежать хотел, у берега новым товаром грузится, да и корабельщики те же. Увидали его, глазам не верят: «Смотри, старик-то жив!»
— Жив, жив, — рассмеялся Иона, — и еще лет сто проживу! Что ж, опять с вами поеду. Возьмете, что ли?
Смутились корабельщики, шептаться стали:
— Как бы опять чего не вышло? Вишь из-за него сколько хлопот. Ему-то ничего, опять выплывет, а нам снова товар в море бросать — одни убытки.
— Берите, не опасайтесь, — успокоил их праведник. — И убытки вернете и барыши будут, а буря вас и концом крыла не заденет.
Как не поверить: старик ясный, — говорит, а сам словно светится. Да и не взять нельзя, рассердится, так и с берега беду накличет.
— А тебе зачем в Фарсис?
— Внучка там у меня, — улыбнулся Иона и тихо повторил: — внучка… Давно не видал.
— Ну, что ж, садись, — сказал кормчий и прикрыл ладонью глаза: солнце поднималось над морем.
Персидские вельможи невзлюбили пророка Даниила: был он любимцем царя Дария и приближен к нему больше всех.
Как осудить пророка? Был он добр, мудр и справедлив, и ни в чем нельзя было его обвинить. Решились они извести его хитростью.
Уговорили царя Дария вельможи-сатрапы издать указ, чтобы никто не смел в течение тридцати дней никому, кроме царя Дария, поклоняться.
Подписал царь указ. А пророк, как всегда,