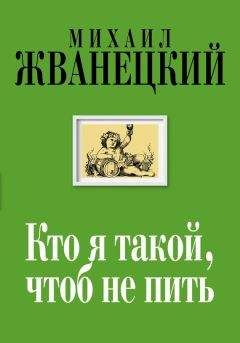– Путаю, да. Страшно путаю. Вот у тебя паспорт XI римские, АК № 567125. Выдан 3-м отделением милиции Черемушкинского района.
– Да ладно, Зинаида!
– Ну тогда вначале мы к тебе милицию вызывали. Потом нас к тебе в милицию вызывали. Если бы не мы... Если бы мы сообщили на работу...
– Да ладно! Ну Зинаида, ну праздник сегодня. Ну ты что?
– Я и говорю. Ты бы до сих пор праздновал. Ну лет десять бы праздновал.
– Ну кто ее позвал? Ну можно что-то сделать?..
– Да я молчу. Разве я говорю? Это я молчу. Просто у вас скучновато. Вы какие-то напряженные все. А если бы я заговорила... Я б атмосферу разрядила. Мы б тут хохотали как зарезанные. Я же веселю вас. Вон он там сидит... Вон на том конце стола, тот с которым... Да не красней!
– Зинаида Максимовна. Это моя жена. Если ты... Я за себя не ручаюсь.
– Что ты торопишься? Я же молчу. Просто смешной случай. Он себе в номер обед заказал, правда, Косантин? Об этом обеде у нас легенды. Да я молчу... Чтоб одной порцией борща весь потолок...
– Зинаида!..
– А это пюре? На телевизоре, в телевизоре. В патроне вместо лампочки кусок отварного мяса прямо ввинчен. А лампочка, наоборот, в тарелке... в пюре... А в постели!.. Да молчу. Но чтоб такое в постели, я еще не видела... Убийство. В крови все. Компот вишневый, или ликер, или варенье... Или они кого-то обмазывали, или облизывали, а впечатление: зарезали. И нож столовый рядом. Тут же в этом джеме ложка и солонка. Убивали и солили... Шоколад рядом давили... Да нет, задом его так не вотрешь... Да, гуляли... Фужеры на пластинку. На ком остановится, того они и, условно говоря, целовали. Снизу клиент сразу съехал. На него натекло в трех местах. Они говорят – шампанское. Что мы, шампанское не знаем?..
– Ну Зинаида, ну уймись. Дайте мне к ней пройти!..
– А я чего, я молчу. Я в смысле – вот где был праздник! Гулять умели. Горничная сразу уволилась, сказала: ухожу санитаркой в сумасшедший дом, зарплата выше, а главное – чище. Да... Ни одного абажура непрожженного. В люстре окурок на высоте трех метров. В ванной только унитаз чистый – стерильный. Именно к нему никто не прикасался. А раковина! Как они туда... подсаживали друг друга, что ли? А чем расписывались на зеркале!.. Да какая там помада?!.
– Зинаида, ну такой срок прошел.
– Да, срок хороший. А мог быть еще больше.
– Дай я ее бутылкой прикончу!
– А что такое? Столько лет я молчала... А теперь все пишут мемуары... Каждый козел с книгой воспоминаний, и мне надо быстрей, пока живы все участники... Юрий Аркадьевич, как ты говорил: «Мы, евреи, тихие, Зинаидочка, мы непьющие. Мы всего боимся».
– Все, Зинаида, прекрати. Кто ее привел? Убить подонка.
– Да, тихие... Кто в этой стране тихий? Вышел в Кишиневе хлеба купить и через час из Москвы звонит: «У меня все в порядке, не волнуйся. Я тебя обожаю». Трубку клал и крестился – еврей.
– Так, ребята. Где она сейчас работает? Сообщим на работу. Пусть ее арестуют.
– Да на пенсии я, на пенсии. Сорок долларов в месяц. И все-таки было светлое пятно. Была у меня радость. Вот он, Леонард Эдуардович. Хотя по паспорту Григорий Яковлевич, VI БЕ № 351254 выдан 8 о/м Ленинграда 25 июля 1973 г. Такая чистота, такая деликатность. Так тихо в ресторане сидели с каким-то балетным пареньком из ансамбля сибирского танца. Этот его о чем-то просит, тот отказывается. Тишина. Покой. Даже не знаю, о чем они говорили. Я же не слушала. Ну про то, что это настоящие чувства и что это не сравнить с любовью к женщине. Что это гораздо выше. В общем, я ничего не слышала и ничего не поняла, да, Леонард?
– Цыц.
– Я ж сказала: я не поняла. Тот сказал: я не умею. Этот сказал: я тебя научу. Тот сказал: мне это не понравится, этот сказал: ты это полюбишь, только попробуй. Тот сказал: я голоден. Этот сказал: я тебя накормлю. Тот сказал: мне холодно. Этот сказал: я тебе куплю пальто. В общем, я не поняла, о чем они говорили, но тот стукнул кулаком. Эх, говорит, Ангара, мошкара!.. Ладно, ставь бутылку и веди. Дальше я не поняла. Этот отвечает: ты что? Ты что?.. Ты, говорит, что, хочешь ничего не чувствовать? Тот говорит: да! Этот говорит: я тебе не баба, в пьяном виде ты со мной не будешь! В пьяном, говорит, виде – это животные. Мне, говорит, такие чувства не нужны.
– Ложь, господа. Я только с женщинами... Заткнись!
– Заткнулась! Леонард ему купил часы в киоске, коробку духов, парфюм. Ладно, говорит тот, ну хоть потом бутылку поставишь? Потом, говорит этот, я тебя на ужин поведу в Эрмитаж и перстень бриллиантовый. За что, я так и не поняла. Взяли у меня ключ. Вот их портреты я бы у себя повесила. Лучшие жильцы всех времен и народов. Сколько раз им ключ давала. Хоть бы салфетку в номере сдвинули. Хоть бы покрывало откинули. Что они там? Как они там? Чем они там? Мы всей командой проверяли. Ниточка как лежала, так и лежит. Перышко специально положили. Даже ветром не сдуло. Движения воздуха не было. Не шевелились они там. Ни звука. Ни дуновения. И входили туда на глазах у всех. И выходили. Вот это любовь. Вот это чувство. Правда, Леонард?
– Не было этого.
– Конечно, не было. У меня ни одного доказательства, кроме записей в регистрации. Все, я больше на пенсии не сижу – я писать начинаю. Документальный роман. У меня же все документы, справки, все метрики. Мне в издательстве обещали 5000 у. е.
– Господа, скидываемся ей на аванс. Тут же, сейчас! Это терпеть нельзя и откладывать нельзя. Всё как в издательстве: за ненаписание такой-то от такого-то такого-то документального романа на столько-то листов под условным названием «Гостиница» такая-то получает от таких-то гонорар в шесть тысяч.
– В семь тысяч.
– В шесть с половиной тысяч.
– В семь с половиной тысяч.
– В семь.
– В восемь.
– Все! В восемь тысяч удавленных, то есть условленных единиц. В случае нарушения сволочью такой-то договора все коробки, асфальты, черепицы, заборы, паркеты, все, что приобрела на взятках и подарках за сдачу номеров без прописки, сообщая в органы ложь и непрерывно пьянствуя в каптерке у дежурных…
– Ребята, я же молчу.
– И мы молчим. Об этом и контракт.
– Я тебя люблю.
– И я тебя люблю.
– А я тебя люблю больше.
– А я тебя еще больше.
– А я тебя еще больше.
– А я тебя еще и еще больше.
– А я тебя еще, еще и еще больше.
– Сейчас как дам по голове, – сказал сын.
Папа замолчал и вышел.
Господи, постепенно дети переходят в родителей, родители в детей.
– Ну вот, мама, ты хотела в гости, вот мы пришли. Ну, разговаривайте. Ну, говори.
Только вы ей сладкое не давайте. Она ела сегодня. Ей нельзя. Она сейчас съест. Она не понимает. В каждом доме ей дают сладкое. Она ест. Она же не понимает.
А люди такие ужасные, особенно подруги ее: «На еще тортик, съешь коржик». О себе думают. Главное, чтоб выглядеть хорошо самим. А что я по ночам имею? Если бы они знали. И давление я имею у нее. И приступы удушья я имею у нее.
Нет!.. Я говорю: хватит. Она ела сегодня бублик. Хватит, нельзя мучное. Ну, она не понимает, а вы подкладываете. Уберите бублик.
Ей шестьдесят четыре. Этого что, мало? Мне этого хватает. Я говорю: она чай уже пила. Она сама не понимает.
Мама, не смей. Я весь февраль бегала к ней в больницу.
Не надо ей жареного. Выплюнь! Выплюнь сейчас же! Какая ты противная.
Фу! Не буду с тобой в гости ходить. Фу! Фу! Я сказала! Фу! Я сказала. Кому я сказала! Положь на тарелку.
Всё! Не для тебя! Пусть все жрут вокруг. А ты – фу! Фу! Я сказала! Брось вилку!
Отойди от стола! Брось сейчас же. Конечно, она будет есть все, что вы ей положили. Дома же ей этого не дают. Там она знает свое место!
Фу! Я сказала! Я кому сказала?! Заберите у нее эту рыбу. Рыбу ей вообще нельзя. Она так подавилась у своей подруги!.. Жаль, я не видела. Без меня пошла. Из дому выскочила. Вскочила в трамвай, а когда мы бросились – ищи-свищи.
Ну и они там наобедались. Завалилась чуть ли не в час ночи. Перегар изо рта. Пояс на туфлях. Женщина, называется. Я не хотела открывать. А пусть на улице ночует! Так она так билась в дверь. Так билась. Дети повыскакивали. Открываем – бабка пьяная, с цветком, с пивом, с таранкой. И давай сначала петь, а потом давай спать среди всех. Ну а наутро я все имела. Весь букет. Давление. Тошнота. Рвало ее. На дом рвало, на мебель, на родных, на город рвало. С тех пор без меня никуда. Или дома сиди, или со мной...
Нет! Нет! Слезы – платком, а рот – салфеткой. Ни черта не доходит. Слезы салфеткой, рот платком.
Кашляет в рукав. Рот так разевает, чтоб в зубе ковырять, что почки видны.
Передовиком была. Ни черта не знает. На унитазе сидеть не умеет. Ударница. Деньги ей не возвращают. Я ей кричу: «Где ты такую компанию нашла?» Не понимает даже, о чем кричу. Даже почему кричу, не понимает. А жить уже не научишь. Как не умела, так и живет.
Государству, которому всегда верить нельзя, верит. Людям верит. Компаниям верит.
«Я, – говорит, – в людях разбираюсь». Да. Пока их нет. Никто в людях не разбирается. Уж на что собака нюхом чует, а в каждом ошибается. К кому ни подойдет – все пнут.