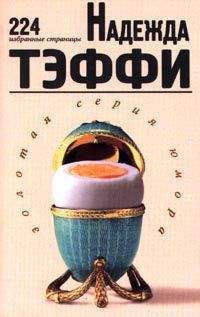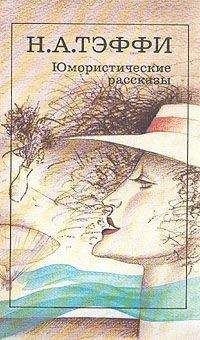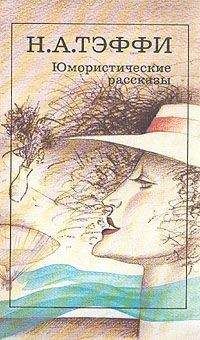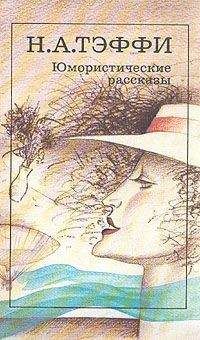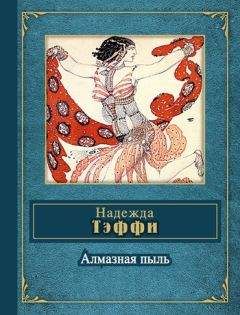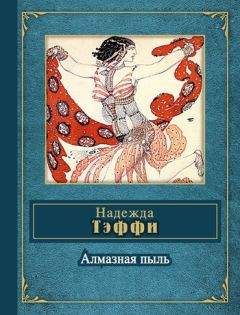Одну из них — П.-С. — "прогрессивно-севастьяновскую" — основал директор почт и телеграфов.
Девиз партии — "Телеграф и почта да будут вне закона".
Что бы ни случилось, через какие бы эволюции ни прошла политическая жизнь России — почтовый чиновник должен оставаться неприкосновенным в своем закостенении. Никакие изменения в законах государства не имеют ни доступа к телеграфному чиновнику, ни власти над ним. Россия — сама по себе, телеграф — сам по себе. А кто этого вместить не может — пусть убирается вон со службы.
Вторая партия еще прогрессивнее. Пожалуй, даже самая прогрессивная. Дальше и идти некуда.
К ней принадлежат многие весьма известные общественные и государственные деятели.
Кто? Нет, их называть незачем. Они так твердо и ясно проводят свою программу в жизнь, что по каждому их распоряжению, докладу, постановлению вы всегда безошибочно отличите их.
Объединяют они себя под буквами П.-П.-П.
— Партия прогрессивных паралитиков.
Молодой эстет, стилист, модернист и критик Герман Енский сидел в своем кабинете, просматривал бабью книгу и злился. Бабья книга была толстенький роман с любовью, кровью, очами и ночами.
"Я люблю тебя! — страстно шептал художник, обхватывая гибкий стан Лидии..."
"Нас толкает друг к другу какая-то могучая сила, против которой мы не можем бороться!"
"Вся моя жизнь была предчувствием этой встречи..."
"Вы смеетесь надо мной?"
"Я так полон вами, что все остальное потеряло для меня всякое значение".
— О-о, пошлая! — стонал Герман Енский. — Это художник будет так говорить! "Могучая сила толкает", и "нельзя бороться" и всякая прочая гниль. Да ведь это приказчик постеснялся бы сказать — приказчик из галантерейного магазина, с которым эта дурища, наверное, завела интрижку, чтобы было что описывать.
"Мне кажется, что я никого никогда еще не любил..."
"Это как сон..."
"Безумно!.. Хочу прильнуть!.."
— Тьфу! Больше не могу! — И он отшвырнул книгу. — Вот мы работаем, совершенствуем стиль, форму, ищем новый смысл и новые настроения, бросаем все это в толпу: смотри — целое небо звезд над тобою, бери, какую хочешь! Нет! Ничего не видят, ничего не хотят. Но не клевещи, по крайней мере! Не уверяй, что художник высказывает твои коровьи мысли!
Он так расстроился, что уже не мог оставаться дома. Оделся и пошел в гости.
Еще по дороге почувствовал он приятное возбуждение, неосознанное предчувствие чего-то яркого и захватывающего. А когда вошел в светлую столовую и окинул глазами собравшееся за чаем общество, он уже понял, чего хотел и чего ждал. Викулина была здесь, и одна, без мужа.
Под громкие возгласы общего разговора Енский шептал Викулиной:
— Знаете, как странно, у меня было предчувствие, что я встречу вас.
— Да? И давно?
— Давно. Час тому назад. А может быть, и всю жизнь.
Это Викулиной понравилось. Она покраснела и сказала томно:
— Я боюсь, что вы просто донжуан.
Енский посмотрел на ее смущенные глаза, на все ее ждущее, взволнованное лицо и ответил искренне и вдумчиво:
— Знаете, мне сейчас кажется, что я никого никогда еще не любил.
Она полузакрыла глаза, пригнулась к нему немножко и подождала, что он скажет еще.
И он сказал:
— Я люблю тебя!
Тут кто-то окликнул его, подцепил какой-то фразой, потянул в общий разговор. И Викулина отвернулась и тоже заговорила, спрашивала, смеялась. Оба стали такими же, как все здесь за столом, веселые, простые — все как на ладони.
Герман Енский говорил умно, красиво и оживленно, но внутренне весь затих и думал:
"Что же это было? Что же это было? Отчего звезды поют в душе моей?"
И, обернувшись к Викулиной, вдруг увидел, что она снова пригнулась и ждет. Тогда он захотел сказать ей что-нибудь яркое и глубокое, прислушался к ее ожиданию, прислушался к своей душе и шепнул вдохновенно и страстно:
— Это как сон...
Она снова полузакрыла глаза и чуть-чуть улыбалась, вся теплая и счастливая, но он вдруг встревожился. Что-то странно знакомое и неприятное, нечто позорное зазвучало для него в сказанных им словах.
"Что это такое? В чем дело? — замучился он. — Или, может быть, я прежде, давно когда-нибудь, уже говорил эту фразу, и говорил не любя, неискренне, и вот теперь мне стыдно. Ничего не понимаю".
Он снова посмотрел на Викулину, но она вдруг отодвинулась и шепнула торопливо:
— Осторожно! Мы, кажется, обращаем на себя внимание...
Он отодвинулся тоже и, стараясь придать своему лицу спокойное выражение, тихо сказал:
— Простите! Я так полон вами, что все остальное потеряло для меня всякое значение.
И опять какая-то мутная досада наползла на его настроение, и опять он не понял, откуда она, зачем.
"Я люблю, я люблю и говорю о любви своей так искренне и просто, что это не может быть ни пошло, ни некрасиво. Отчего же я так мучаюсь?"
И он сказал Викулиной:
— Я не знаю, может быть, вы смеетесь надо мной... Но я не хочу ничего говорить. Я не могу. Я хочу прильнуть...
Спазма перехватила ему горло, и он замолчал.
Он провожал ее домой, и все было решено. Завтра она придет к нему. У них будет красивое счастье, неслыханное и невиданное.
— Это как сон!..
Ей только немножко жалко мужа.
Но Герман Енский прижал ее к себе и убедил.
— Что же нам делать, дорогая, — сказал он, — если нас толкает друг к другу какая-то могучая сила, против которой мы не можем бороться!
— Безумно! — шепнула она.
— Безумно! — повторил он.
Он вернулся домой как в бреду. Ходил по комнатам, улыбался, и звезды пели в его душе.
— Завтра! — шептал он. — Завтра! О, что будет завтра!
И потому, что все влюбленные суеверны, он машинально взял со стола первую попавшуюся книгу, раскрыл ее, ткнул пальцем и прочел:
"Она первая очнулась и тихо спросила:
— Ты не презираешь меня, Евгений?"
"Как странно! — усмехнулся Енский. — Ответ такой ясный, точно я вслух спросил у судьбы. Что это за вещь?"
А вещь была совсем немудреная. Просто-напросто последняя глава из бабьей книги.
Он весь сразу погас, съежился и на цыпочках отошел от стола.
И звезды в душе его в эту ночь ничего не спели.
Швейцар частных коммерческих курсов должен был вечером отлучиться, чтобы узнать, не помер ли его дяденька, а поэтому бразды правления передал своему помощнику и, передавая, наказывал строго:
— Вечером тут два зала отданы под частные лекции. Прошу относиться к делу внимательно, посетителей опрашивать, кто куда. Сиди на своем месте, снимай польты. Если на лекцию Киньгрустина, — пожалуйте направо, а если на лекцию Фермопилова, — пожалуйте налево. Кажется, дело простое.
Он говорил так умно и спокойно, что на минуту даже сам себя принял за директора.
— Вы меня слышите, Вавила?
Вавиле все это было обидно, и по уходе швейцара он долго изливал душу перед длинной пустой вешалкой.
— Вот, братец ты мой, — говорил он вешалке, — вот, братец ты мой, иди и протестуй. Он, конечно, швейцар, конечно, не нашего поля ягода. У него, конечно, и дяденька помер, и то и се. А для нас с тобой нету ни празднику, ни буднику, ничего для нас нету. И не протестуй. Конечно, с другой стороны, ежели начнешь рассуждать, так ведь и у меня может дяденька помереть, опять-таки и у третьего, у Григорья, дворника, скажем, может тоже дяденька помереть. Да еще там у кого, у пятого, у десятого, у извозчика там у какого-нибудь... Отчего ж? У извозчика, братец ты мой, тоже дяденька может помереть. Что ж извозчик, по-твоему, не человек, что ли? Так тоже нехорошо, — нужно справедливо рассуждать.
Он посмотрел на вешалку с презрением и укором, а она стояла, сконфуженно раскинув ручки, длинная и глупая.
— Теперь у меня, у другого, у третьего, у всего мира дядья помрут, так это, значит, что же? Вся Европа остановится, а мы будем по похоронам гулять? Нет, брат, так тоже не показано.
Он немножко помолчал и потом вдруг решительно вскочил с места.
— И зачем я должен у дверей сидеть? Чтоб мне от двери вторичный флюс на зуб надуло? Сиди сам, а я на ту сторону сяду.
Он передвинул стул к противоположной стене и успокоился.
Через десять минут стала собираться публика. Первыми пришли веселые студенты с барышнями.
— Где у вас тут лекция юмориста Киньгрустина?
— На лекцию Киньгрустина пожалуйте направо, — отвечал помощник швейцара тоном настоящего швейцара, так что получился директор во втором преломлении.
За веселыми студентами пришли мрачные студенты и курсистки с тетрадками.
— Лекция Фермопилова здесь?
— На лекцию Фермопилова пожалуйте налево, — отвечал дважды преломленный директор.
Вечер был удачный: обе аудитории оказались битком набитыми.