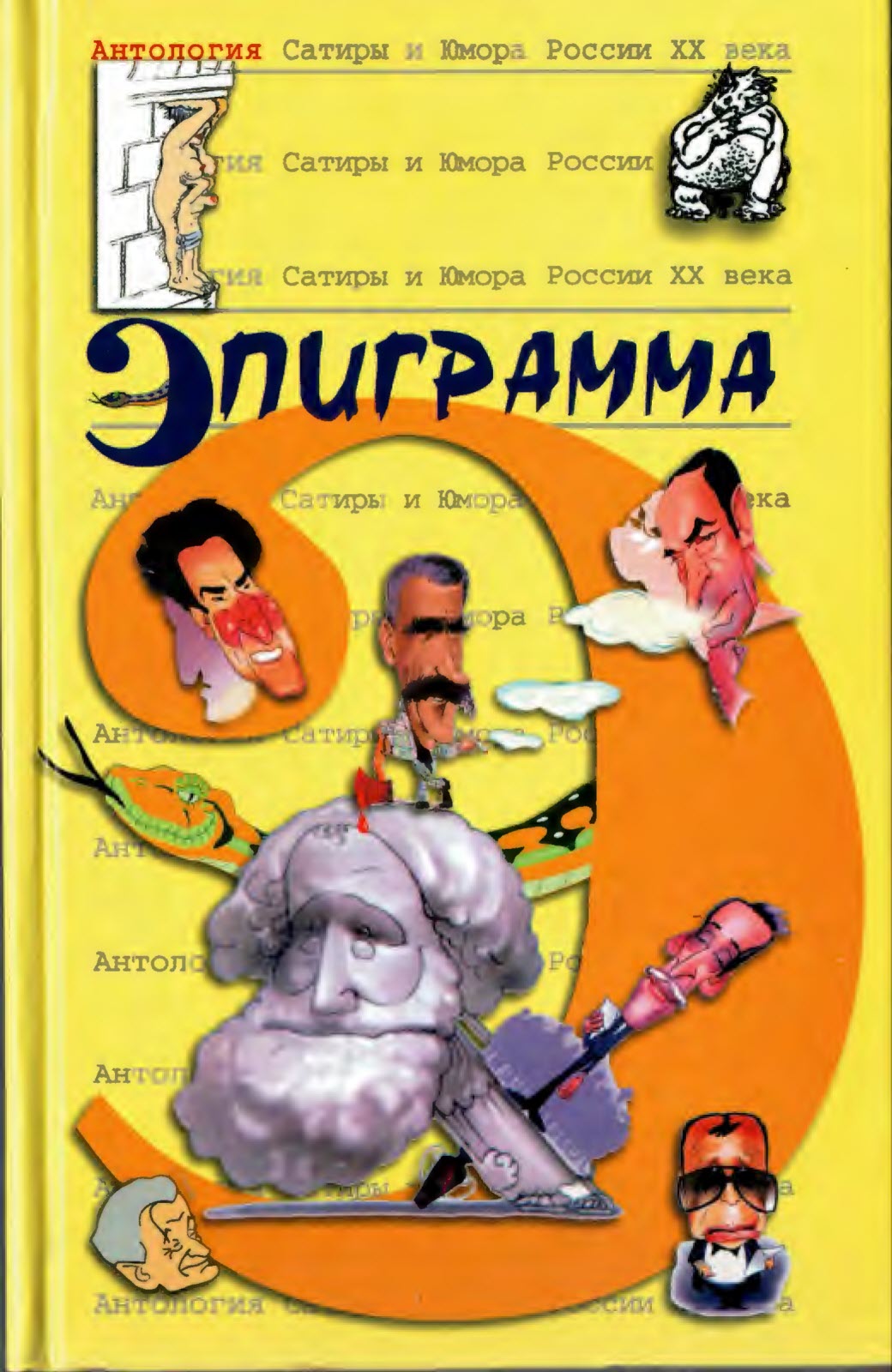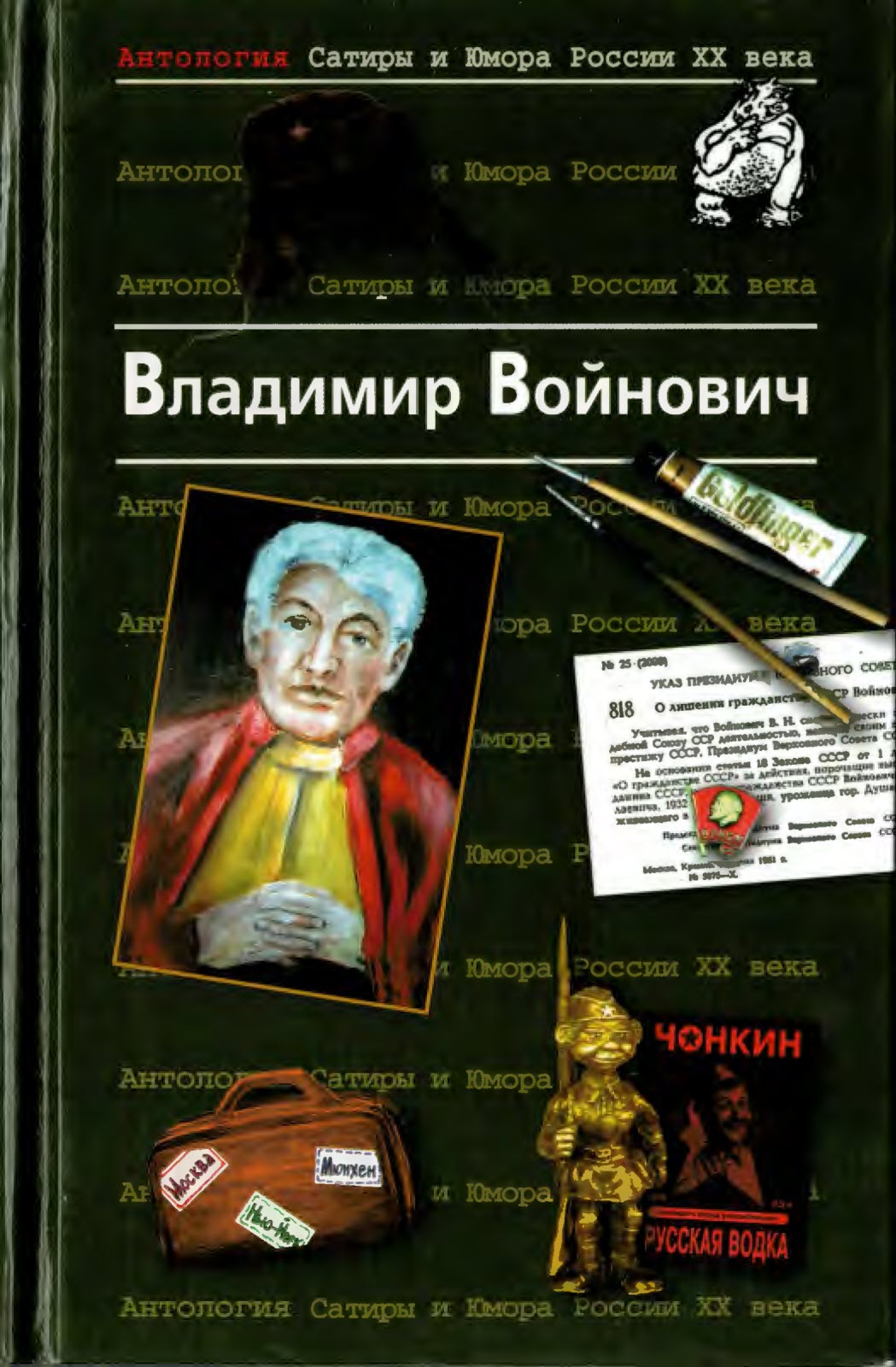Почему-то у «толстых» журналов.
Как у толстых девиц средних лет.
Слов и рыхлого мяса немало.
Но совсем темперамента нет.
Да, многие лучшие черты нашей словесности XX века определились именно в первые полтора его десятилетия, а после 1917 года продолжали развиваться в новых условиях, несравненно более трудных для художественного поиска. Оглядываясь на советские и постсоветские годы, можно сказать, что русская эпиграмма продолжала в основном освещать все те же две темы: политику и жизнь искусства. Причем они оказались тесно связанными: творческие личности оцениваются в эпиграммах прежде всего с точки зрения их общественно-политического поведения. Эпиграмма в полной мере осветила трагический процесс партийно-правительственного «руководства» литературой и искусством.
После того как все музы оказались под пристальным надзором цензуры и «проработочной» критики, эпиграмма все больше и больше уходила в подполье, в «самиздат» и устное бытование. Подобно интеллигентам, прошедшим лагерную закалку, познавшим язык и нравы простого народа, эпиграмма изменилась, в какой-то мере опростилась, освоила не только высокомерный сарказм, но и матерное словцо, научилась, что называется, бить морду противнику. Анонимная эпиграмма слилась с частушкой и стала народным жанром:
Эх, огурчики
Да помидорчики.
Сталин Кирова убил
В коридорчике.
Но, когда было нужно, эпиграмма отметала ерничество и балагурство, вспоминала о своем классическом достоинстве, в ней звучало, говоря словами Ахматовой, «великолепное презренье» к власть имущим и их прихвостням. Немало таких эпиграмм сохранил рукописный альманах Корнея Чуковского «Чукоккала». Юрий Тынянов раньше других понял, что этот домашний альбом есть настоящая историческая скрижаль. «Сижу, бледнея, над экспромтом —/ И даже рифм не подыскать/ Перед потомками потом там /За все придется отвечать», — писал он, подражая эпиграмматическому стилю Пушкина. На страницах «Чукоккалы» Тынянов запечатлел и свое двустишие, построенное по старинной модели «эха», когда второй стих подхватывает окончание первого:
Если же ты не согласен с эпохой —
Охай.
Получился своеобразный эпиграф ко всему минувшему веку.
Для узкого круга сочинял свои эпиграммы под общим названием «Антология античной глупости» Осип Мандельштам. Например:
Юношей Публий вступил в ряды ВКП золотые;
Выбыл из партии он дряхлым — увы! — стариком.
Теперь, когда этот элегический дистих опубликован во множестве посмертных изданий поэта, мы можем убедиться в нетленности этих строк, наблюдая, как современный Публий вступает поочередно в «Выбор России», в «Наш дом — Россия» и наконец в «Единую Россию».
Неподцензурные эпиграммы образовали как бы подводную часть айсберга, внутренне связанную с тем тонким слоем смелого остроумия, который все же проникал в советскую прессу. В 1952 году на партийном съезде сталинский тогдашний фаворит Маленков лицемерно возгласил, что, дескать, нам нужны новые Гоголи и Щедрины, чтобы бороться с пережитками прошлого и так далее. Юрий Благов откликнулся на это эпиграммой:
Мы за смех, но нам нужны
Подобрее Щедрины
И такие Гоголи,
Чтобы нас не трогали.
Самое поразительное, что эти строки были опубликованы в журнале «Крокодил» — под видом обличения «зажимщиков критики». На самом же деле они были направлены против первых персон государства. Так эпиграмме порой удавалось перехитрить цензуру.
Продолжали в советское время сочиняться и эпиграммы, которые у филологов именуются антологическими, то есть остроумные афористические высказывания на «вечные» темы. Вершиной здесь стали «Лирические эпиграммы» Маршака, достигающие абсолютной обобщенности и неотразимости поэтической мысли:
Свиньи, склонные к бесчинству.
На земле, конечно, есть.
Но уверен я, что свинству
Человечества не съесть.
Ровно одно произведение в малом жанре написала Анна Ахматова, так и назвав его — «Эпиграмма»:
Могла ли Биче словно Дант творить
Или Лаура жар любви восславить?
Я научила женщин говорить.
Но, Боже, как их замолчать заставить!
Трудно представить интеллигентного человека, который бы не знал этих ахматовских строк наизусть.
Особо следует сказать о переводных эпиграммах, ставших фактом отечественной культуры. Роберт Бернс в творческой передаче Маршака стал для нас своим, близким поэтом. Питерский поэт и переводчик Владимир Васильев несколько десятилетий отдал работе над английской, французской и испанской сатирой, а в 1998 году выпустил четырехтомное собрание «Всемирная эпиграмма», где соединил свои и чужие переводы, предложил свою подборку лучших русских образцов жанра. В итоге получилась уникальная эпиграмматическая энциклопедия.
«Перестроечный» прорыв второй половины восьмидесятых годов вызвал эпиграмматическое половодье. Стало печататься все, что раньше запрещалось. Стали сочиняться острые стихотворные отклики на все происходящее в стране. Пока еще трудно сориентироваться в этом мощном хоре. Отметим имена некоторых солистов: Игоря Губермана, чьи «гарики» стали индивидуальной разновидностью жанра, Бориса Брайнина, неизменно стремящегося к отточености эпиграмматического слова… Многие эпиграммы примечательны прежде всего как явление артистического быта: таковы шуточные миниатюры Валентина Гафта.
Время все и всех еще расставит по местам, а пока составителю этой книги не оставалось ничего, кроме как разместить тексты в алфавитном порядке авторских имен.
Любой свод русских эпиграмм XX века — это проект, это предварительный вариант, подлежащий уточнению. Любая оценка достижений жанра — условна и субъективна. Напомню: об эпиграмме надлежит говорить в масштабе даже не столетнем, а тысячелетнем. Пока можно уверенно сказать одно: «окогченная летунья», как называл ее Баратынский, сохранила верность заветам классиков, стремительно преодолела столетнюю дистанцию, прошлась своим когтем по всей шкуре жестокого двадцатого века и, не теряя скорости, влетела в третье тысячелетие.
Я на мир взираю из-под столиков:
Век двадцатый, век необычайный!