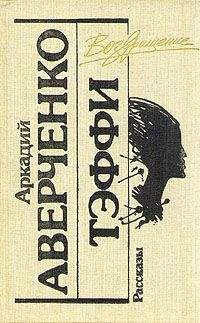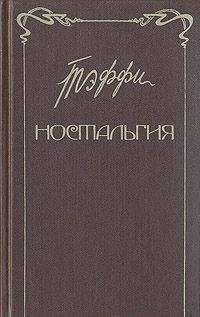Свеча погасла, но от этого в комнате показалось светлее.
Белая ночь шла к рассвету.
— Господи, Господи, — повторяла Катя и толкнула дверь в сад. Не смела пошевелиться. Боялась стукнуть каблуком, зашуршать платьем — такая несказанная голубая серебристая тишина была на земле. Так затихли и так молчали недвижные пышные купы деревьев, как молчать и затихнуть могут только живые существа, чувствующие.
«Что здесь делается? Что только здесь делается? — в каком-то даже ужасе думала Катя. — Ничего этого я не знала».
Все словно изнемогало — и эти пышные купы, и свет невидимый, и воздух недвижный, все переполнено было какой-то чрезмерностью могучей и неодолимой и не познаваемой, для которой нет органа в чувствах и слова на языке человеческом.
Тихая и все же слишком нежданно громкая трель в воздухе заставила ее вздрогнуть. Крупная, мелкая, неведомо откуда лилась, сыпалась, отскакивала серебряными горошинками... Оборвалась...
— Соловей?
И еще тише и напряженнее стало после этого «их» голоса.
Да «они» были все вместе, все заодно. Только маленькое человеческое существо, восхищенное до ужаса, было совсем чужое. Все «они» что-то знали. Это маленькое человеческее существо только думало.
— Июнь, — вспомпилась книга тайн несказанных... — Июнь...
И в тоске металась маленькая душа.
— Господи! Господи! Страшно на свете Твоем. Как же быть мне? И что оно, это, все это?
И все искала слов, и все думала, что слова решат и успокоят.
Охватила руками худенькие плечи свои, словно не сама, словно хотела спасти, сохранить вверенное ей хрупкое тельце, и увести из хаоса охлынувших его звериных и божеских тайн.
И, опустив голову, сказала в покорном отчаянии те единственные слова, которые единственны для всех душ и великих и малых, и слепых и мудрых...
— Господи, — сказала, — Имя Твое да святится... И да будет воля Твоя...
Прежде чем начать военные действия, мальчишки загнали толстую Бубу в переднюю и заперли за ней дверь на ключ.
Буба ревела с визгом. Поревет и прислушается — дошел ли ее рев до мамы. Но мама сидела у себя тихо и на Бубин рев не отзывалась.
Прошла через переднюю бонна и сказала с укором:
— Ай, как стыдно! Такая большая девочка и плачет.
— Отстань, пожалуйста, — сердито оборвала ее Буба. — Я не тебе плачу, а маме плачу.
Как говорится — капля камень продолбит. В конце концов, мама показалась в дверях передней.
— Что случилось? — спросила она и заморгала глазами. — От твоего визга опять у меня мигрень начнется. Чего ты плачешь?
— Ма-альчики не хотят со мной играть. Бу-у-у!
Мама дернула дверь за ручку.
— Заперта? Сейчас же открыть! Как вы смеете запираться? Слышите?
Дверь открылась.
Два мрачных типа, восьми и пяти лет, оба курносые, оба хохлатые, молча сопели носами.
— Отчего вы не хотите с Бубой играть? Как вам не стыдно обижать сестру?
— У нас война, — сказал старший тип. — Женщин на войну не пускают.
— Не пускают, — басом повторил младший.
— Ну, что за пустяки, — урезонивала мама, — играйте, будто она генерал. Ведь это не настоящая война, это — игра, область фантазии. Боже мой, как вы мне надоели!
Старший тип посмотрел на Бубу исподлобья.
— Какой же она генерал? Она в юбке и все время ревет.
— А шотландцы ведь ходят же в юбках?
— Так они не ревут.
— А ты почем знаешь?
Старший тип растерялся.
— Иди лучше рыбий жир принимать, — позвала мама. — Слышишь, Котька! А то опять увильнешь.
Котька замотал головой.
— Ни-ни за что! Я за прежнюю цену не согласен.
Котька не любил рыбьего жира. За каждый прием ему полагалось по десять сантимов. Котька был жадный, у него была копилка, он часто тряс ее и слушал, как брякают его капиталы. Он и не подозревал, что его старший брат, гордый лицеист, давно приспособился выковыривать через щелку копилки маминой пилочкой для ногтей кое-какую поживу. Но работа эта была опасная и трудная, кропотливая, и не часто можно было подрабатывать таким путем на незаконную сюсетку.
Котька этого жульничества не подозревал. Он на это не способен был. Он просто был честный коммерсант, своего не упускал и вел с мамой открытую торговлю. За ложку рыбьего жира брал по десять сантимов. За то, чтобы позволить вымыть себе уши, требовал пять сантимов, вычистить ногти — десять, из расчета по сантиму за палец; выкупаться с мылом — драл нечеловеческую цену: двадцать сантимов, причем оставлял за собой право визжать, когда ему мылили голову, и пена попадала в глаза. За последнее время его коммерческий гений так развился, что он требовал еще десять сантимов за то, что он вылезет из ванны, а не то, так и будет сидеть и стынуть, ослабеет, простудится и умрет.
— Ага! Не хотите, чтобы умер? Ну, так гоните десять сантимов и никаких.
Раз даже, когда ему захотелось купить карандаш с колпачком, он додумался о кредите и решил забрать вперед за две ванны и за отдельные уши, которые моются утром без ванны. Но дело как-то не вышло: маме это не понравилось.
Тогда он и решил отыграться на рыбьем жире, который, всем известно, страшная гадость, и есть даже такие, которые совсем его не могут в рот взять. Один мальчик рассказывал, что он как глотнет ложку, так этот жир у него сейчас вылезет через нос, через уши и через глаза, и что от этого можно даже ослепнуть. Подумайте только — такой риск, и все за десять сантимов.
— За прежнюю цену не согласен, — твердо повторил Котька. — Жизнь так вздорожала, невозможно принимать рыбий жир за десять сантимов. Не хочу! Ищите себе другого дурака ваш жир пить, а я не согласен.
— Ты с ума сошел! — ужасалась мама. — Как ты отвечаешь? Что это за тон?
— Ну, кого хочешь спроси, — не сдавался Котька, — это невозможно, за такую цену.
— Ну, вот подожди, придет папа, он тебе сам даст. Увидишь, будет ли он с тобой долго рассуждать.
Эта перспектива не особенно Котьке понравилась. Папа был нечто вроде древнего тарана, который подвозили к крепости, долго не желавшей сдаваться. Таран бил по воротам крепости, а папа шел в спальню и вынимал из комода резиновый пояс, который он носил на пляже, и свистел этим поясом по воздуху — жжи-г! жжи-г!
Крепость, обыкновенно, сдавалась прежде, чем таран пускался в ход.
Но в данном случае много значило оттянуть время. Еще придет ли папа к обеду. А может быть, приведет с собой кого-нибудь чужого. А может быть, будет чем-нибудь занят или расстроен и скажет маме:
— Боже мой! Неужели даже пообедать нельзя спокойно?
Мама увела Бубу.
— Пойдем, Бубочка, я не хочу, чтобы ты играла с этими дурными мальчишками. Ты хорошая девочка, поиграй своей куколкой.
Но Бубе, хотя и приятно было слышать, что она хорошая девочка, совсем не хотелось играть с куколкой, когда мальчишки будут разделывать войну и лупить д-руг друга диванными подушками. Поэтому она хотя и пошла с мамой, но втянула голову в плечи и тоненько заплакала.
У толстой Бубы была душа Жанны д'Арк, а тут вдруг извольте вертеть куколку! И, главное, обидно то, что Петя, по прозванью Пичуга, младше нее, и вдруг имеет право играть в войну, а она нет. Пичуга презренный, шепелявый, малограмотный, трус и подлиза. От него совершенно невозможно перенести унижение. И вдруг Пичуга вместе с Котькой выгоняют ее вон и запирают за нею двери. Утром, когда она пошла посмотреть их новую пушечку и засунула палец в ее жерло, этот низкий человек, подлиза, на год моложе ее, завизжал поросячьим голосом и нарочно визжал громко, чтобы Котька услышал из столовой.
И вот она сидит одна в детской и горько обдумывает свою неудачно сложившуюся жизнь.
А в гостиной идет война.
— Кто будет агрессором?
— Я, — басом заявляет Пичуга.
— Ты? Хорошо, — подозрительно быстро соглашается Котька. — Значит, ложись на диван, а я буду тебя драть.
— Почему? — пугается Пичуга.
— Потому что агрессор — подлец, его все ругают, и ненавидят, и истребляют.
— Я не хочу! — слабо защищается Пичуга.
— Теперь поздно, ты сам заявил.
Пичуга задумывается.
— Хорошо! — решает он. — А потом ты будесь агрессор.
— Ладно. Ложись.
Пичуга со вздохом ложится животом на диван. Котька с гиканьем налетает на него и, прежде всего, трет ему уши и трясет его за плечи. Пичуга сопит, терпит и думает:
«Ладно. А вот потом я тебе покажу».
Котька хватает за угол диванную подушку и бьет ею со всего маху Пичугу по спине. Из подушки летит пыль. Пичуга крякает.
— Вот тебе! Вот тебе! Не агрессничай в другой раз! — приговаривает Котька и скачет, красный, хохлатый.
«Ладно! — думает Пичуга. — Вот все это я тебе тоже».
Наконец Котька устал.
— Ну, довольно, — говорит, — вставай! Игра кончена.