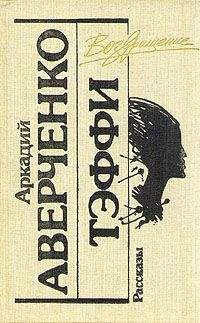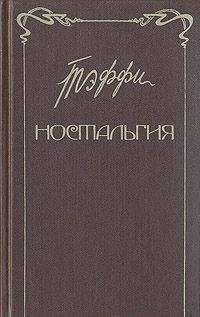Любопытно парадоксальное на первый взгляд высказывание современного Тэффи критика П. Бицилли по поводу ее героев: «чем жальче, чем печальнее их участь, тем сильнее сказывается их детскость, их слабость, беспомощность и их безвинность. Поэтому трагическая развязка в данном случае вызывает в нас «катарсис» особого рода: катарсис, состоящий не в удовлетворении, какое дает сознание правоты героя, в силу чего и гибель его является моральным торжеством, и не в том, какое испытывается от зрелища очищения гибелью от вины, искупления греха карою; а в том, что сочувствие страдающему выражается в особой эмоции, в которой печаль сочетается опять-таки с радостью, — радостью, сообщающейся нам самим страдающим лицом. Ибо страдающий ребенок... никогда не одинок в своем страдании: он сумеет за что-то ухватиться, к чему-то прижаться, что-то согреть и оживить своим дыханием, и в этом обретает свою радость. Оттого и наше сострадание сопряжено с со-радованием» .
1917 год. Как и большинство либерально настроенной интеллигенции, Тэффи с энтузиазмом приветствует февральскую революцию. Отголоски этих настроений слышны в стихах и скетчах, публикуемых ею в «Новом Сатириконе». Но Октябрьскую революцию Тэффи не сумела понять и принять.
...Холодная, голодная, опустошенная Москва. «Жили как в сказке о Змее Горыныче, которому каждый год надо было отдавать 12 девиц и 12 добрых молодцов», — пишет она в своих «Воспоминаниях». Подвернулся некий «антрепренер Гуськин» с предложением совершить короткую гастрольную поездку в теплый благословенный Киев.
«Прощай, Москва милая», — Тэффи соглашается на его уговоры. «Не надолго. Всего на месяц. Через месяц вернусь».
«Ужасно не люблю слова «никогда», — восклицает Тэффи и с непокидающим ее юмором добавляет: — Если бы мне сказали, что у меня, например, никогда не будет болеть голова, я б и то, наверное, испугалась».
Тэффи никогда не вернется в Россию. Москва — Киев — Одесса — Севастополь — Новороссийск — ...все дальше, дальше...
«Сейчас вернуться в Петербург трудно, поезжайте пока за границу, — посоветовали мне. — К весне вернетесь на родину.
Чудесное слово — весна. Чудесное слово — родина... Весна — воскресение жизни. Весной вернусь» .
Никогда.
Она проживет 32 года в эмиграции и умрет 5 октября 1952 года в Париже.
Что такое была эмиграция Тэффи, можно понять из ее эссе в журнале «Грядущий день», выходившем в 1919 году в Одессе — последнем оплоте «беженцев из Совдепии». Называется эссе «На скале Гергесинской» по библейскому мифу о бесах, вошедших в стадо свиней.
«На востоке редко бывают однородные стада. Чаще — смешанные. И в стаде свиней гергесинских были, наверное, кроткие, напуганные овцы. Увидели овцы, как бросились взбесившиеся свиньи, взметнулись тоже.
— Наши бегут?
— Бегут!
И ринулись, кроткие, вслед за стадом и погибли вместе.
Если бы возможен был во время этой бешеной скачки диалог, то был бы он таков, какой мы так часто слышим последние дни.
— Зачем мы бежим? — спрашивают кроткие.
— Все бегут.
— Куда мы бежим?
— Куда все.
— Зачем мы с ними? Не наши они. Не хорошо нам, что мы с ними... Что мы делаем? Мы потерялись, мы не знаем...
Но бегущие рядом свиньи знают...
— ...Вы от кого бежите?
— От большевиков.
— Странно! — томятся кроткие, — ведь и мы тоже от большевиков. Очевидно, раз эти бегут — нам надо было оставаться.
...Бегут действительно от большевиков. Но бешеное стадо бежит от правды большевистской, от принципов социализма, от равенства и справедливости, а кроткие и испуганные — от неправды, от черной большевистской практики, от террора несправедливости и насилия... Бегут. Терзаются, сомневаются и бегут...»
Недолгая остановка в Стамбуле — и Франция. Париж, город, внутри которого скоро вырастет «Городок» (так называется книга Тэффи), «настоящая летопись, — по определению Дона Аминадо, тоже бывшего сатириконца, — по которой можно безошибочно восстановить беженскую эпопею» .
Но пока все только начинается, закладываются первые камни на строительстве Городка. Тэффи, приехавшая на месяц раньше других, устраивает в своем номере вечер для новоприбывших. Гости самые разные: бывший военный атташе граф Игнатьев, «петербургская богиня» красавица Саломея Андреева, издатель Т. И. Полнер, критик и блестящий рассказчик А. А. Койранский, прокурор Сената В. П. Носович, талантливые художники С. Судейкин и А. Яковлев. (Последнему принадлежит портрет Тэффи — в профиль, с лисой на плечах, — который он набросал тут же, чтобы увековечить этот вечер — «первую главу зарубежного быта».) Атмосфера теплая и непринужденная, как и всегда рядом с Тэффи. «Больше всех шумел, толкался, зычно хохотал во все горло» А. Н. Толстой. Его жена Н. Крандиевская, отыскав в журнале «Грядущая Россия» только что опубликованные стихи Тэффи, читала вслух, наслаждаясь их мелодичностью:
Он ночью приплывет на черных парусах,
Серебряный корабль с пурпурною каймою...
И вдруг в одном из уголков этого импровизированного литературного салона прозвучал смешной и вместе щемящий рассказ Койранского о старом русском генерале, который вышел на площадь Согласия и, оглядевшись, сказал со вздохом: « — Все это хорошо... очень даже хорошо... но Que faire? Фер-то кэ?!»
«Тут уже сама Тэффи, сразу, верхним чутьем учуявшая тему, сюжет, внутренним зрением разглядевшая драгоценный камушек-самоцвет, бросилась к Койранскому и, в предельном восхищении, воскликнула: — Миленький, подарите!..» И когда тот ответил, что почтет за честь, «от радости захлопала в ладоши». Такова, по словам Дона Аминадо, предыстория возникновения рассказа , который будет иметь небывалый успех в эмигрантской среде. «Фер-то кэ?» войдет в пословицу, станет постоянным рефреном их потерянной жизни. Забавная коротенькая история об отставном генерале, не потеряв своей сатирической заостренности, трансформируется под пером Тэффи в повествование о трагической, по сути, судьбе эмигрантов, забывающих родной язык и начинающих говорить на уродливой смеси русского и французского.
Из рассказа «Ностальгия»: «Приезжают наши беженцы, изможденные, почерневшие от голода и страха, отъедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь, и вдруг гаснут. Тускнеют глаза, опускаются вялые руки и вянет душа, душа, обращенная на восток. Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим. Умерли. Боялись смерти большевистской и умерли смертью здесь. Вот мы — смертью смерть поправшие! Думаем только о том, что теперь там. Интересуемся только тем, что приходит оттуда...»
Той же теме посвящены статья Тэффи «О русском языке» и ее ответ на анкету журнала «Веретеныш»: «Среди эмигрантов ничто не указывает на... зарождение новой литературной эпохи. Здешняя молодежь с каждым днем теряет корни, забывает язык (слова, их ударения, ритм, гармонию, тело языка); как современные греки изучают настоящий древний греческий язык, так эмигрантская молодежь пачнет скоро изучать русский язык; пока что говорит эмигрантская Россия уже на новом, уродливом и убогом... Но душой чувствую я, что свет придет с востока» .
Эти горькие мысли горячо оспаривались в эмигрантской среде. «Почему г-жа Тэффи признает силу тех, кто в России, а здешних считает бессильными?.. — пишет А. Волконский в статье «Об «охранителях» (по поводу одной статьи г-жи Тэффи»). — Полагаю, что за нами, людьми наследственной культуры, много больше возможностей влиять в этом вопросе, чем у людей, бессознательно пользующихся языком».
«Зарубежная русская литература, — вторит ему Глеб Струве, — есть временно отведенный в сторону поток общерусской литературы, который — придет время — вольется в общее русло этой литературы. И воды этого отдельного, текущего за рубежами России потока, пожалуй, более будут содействовать обогащению этого общего русла, чем воды внутрироссийские». По счастью, время это пришло, и обмелевшее некогда русло нашей литературы вновь становится полноводным.
Сама Тэффи владела родным языком безупречно, и долгие годы, проведенные вне его стихии, нисколько не испортили блестящей афористичности ее стиля, где при экономии художественных средств достигался необычайный психологический эффект. Не случайно ее сравнивали с Чеховым, говорили о наличии «подводного течения» в ее прозе. Впрочем, Чехов, как замечает современный Тэффи критик Р. Днепров, «все же творил некий «суд сверху», был заинтересован в лучшем, чем то, что видел, т. е. опять-таки требовал. Тэффи не обличает, не зовет, не судит, не требует. Она с людьми, она не отделяет себя от них ни в чем... Печаль — вот основная нота ее голоса, надломленного, умного. Печаль и неосуждение, горький ветер вечности, экклезиастова вещая простота — вот что ближе ей всего...» .
Как она писала?